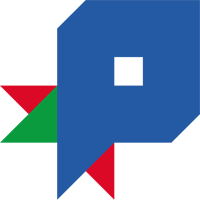Это, однако, совсем не означает, что преступлений (в том числе и тяжких) в деревнях и городах не случалось. Посягали карелы на казну, на веру, на общественное благоустройство и благочиние.
А ещё Карелию называли подстоличной Сибирью: в ссылку на берега Онежского озера отправляли даже царских особ.

В конце XVI века в Заонежье печалилась постриженная в монахини боярыня Ксения Романова. Фото: Игорь Георгиевский
Преступление / Pahanruado
Обратимся к временам не столь отдаленным. Карельский преступник конца XIX века несколько отличался от преступника московского, петербургского или малоросского.
Вы не встрѣтите въ Туломозерской и Ведлозерской волостяхъ конокрада знойнаго юга, не встрѣтите вы тамъ также вора-громилу центральной полосы, мало тамъ найдется и любителей пускать краснаго пѣтуха. Но зато вы наталкиваетесь въ нихъ на поразительно легкое отношеніе къ человѣческой жизни, на грубое неуваженіе къ ней недисциплинированнаго обитателя дремучаго лѣса и горъ, на особую мораль, одобряющую какъ бы дѣйствія руки, вооруженной печально-знаменитымъ финскимъ ножемъ, общее запрещеніе носить который въ предѣлахъ столицы еще недавно послѣдовало со стороны петербургскаго градоначальника.
Борис Гурвич. Преступления и преступники в Олонецком уезде. Петрозаводск, 1904
Исследователь Гурвич первопричину зла видел в водке. Уменьшить кровавую карельскую преступность запретом кабаков не получится, считал он, надо и о душе позаботиться. Поскольку население Олонецкого уезда «представляется совершенно неграмотнымъ и потому не обладающимъ психическимъ запасомъ, единственно обезпечивающимъ критику и пониманіе добра и зла».

Беломорские карелы Гурвича не читали. Фото: И.К. Инха, 1894
Другое дело, писал учёный, — соседняя Финляндия (часть Российской империи) и не совсем соседние Швеция и Норвегия (независимые государства). Там власти о духовной стороне не забывали, и уровень преступности в Скандинавии был гораздо ниже, чем в Карелии.
В общем, Борис Гурвич считал, что распространение образования и религиозной веры среди карел снизит количество убийств на душу населения. Допускал, правда, что образованный карел будет больше склонен к интеллектуальному преступлению, чем необразованный. Но мошенничество — лучше, чем убийство. Поскольку гуманнее.
- Карелы в начале XX века. Фото: ru.wikipedia.org
- Карелы в профиль. Фото: Николай Шабунин, «Путешествие на север», 1906
Борец с пьянством и развратом, Гурвич был еще и большой физиогномист: верил в прямую связь между внешним видом человека и его характером. Описывая типичного преступника-карела, он упоминает «черты лица звѣрскія и непріятныя», а также «кривые физиономии».
Статистика / Statistiekku
В 1914 году еще один исследователь, Владимир Копяткевич, изучил статистику преступлений, совершенных во всей Олонецкой губернии с 1897 по 1911 год. Действительно, больше всего за это время случилось преступлений против жизни и здоровья: убийств, покушений на убийство, избиений — в разные годы от 31 до 42 процентов.
Кстати, Копяткевич подметил, что за те 15 лет, которые он исследовал, удельный вес «личных посягательств» постоянно падал, тогда как доля краж и мошенничества непрерывно росла. Судя по всему, сыграла свою роль забота о духовной стороне: накануне революции в России ей уделялось особое внимание.
Преступниц в Олонецкой губернии было гораздо меньше, чем преступников. При том, что население Карелии было женским больше чем наполовину, среди подсудимых женщин насчитывалось в разные годы от девяти до 14 процентов.
Чаще карелки преступали закон, посягая на жизнь и здоровье человека и чужое имущество. Немало женщин за пятилетку покушались и на самое дорогое, что было у законопослушных граждан: веру. Из 115 осужденных в 1907-1911 годах по соответствующим статьям 48 были женщинами.
Сравнивая мужскую и женскую преступность, ученый пишет: мужчины более склонны к преступлениям государственным, а женщины «охотнее идут другим, более легким, путем — нарушая правила, охраняющие общественное благоустройство и благочиние».

Кандалы ножные на заклепках изготавливались на Александровском заводе в Петрозаводске, ремонтировались обычно в мастерских гарнизонного батальона. Фото: из коллекции Национального музея Карелии
Преступников разделяли не только по полу-возрасту, но — такие были времена — и по общественному положению (сословию). Тут получалось, что чаще всего преступниками становились крестьяне, затем идут мещане и только потом — потомственные и личные дворяне, духовные лица и купцы.
Высокий процент крестьянской преступности объяснялся тем, что самих крестьян в губернии насчитывалось гораздо больше, чем представителей всех остальных сословий вместе взятых. Зато если учесть удельный вес крестьян в населении, получится другая картина: городская преступность окажется больше деревенской.
Хулиганство / Pahanruandu
В самом начале XX века Олонецкую губернию захлестнула еще одна проблема — хулиганство. Об этом «новом явлении», пришедшем в Россию, конечно же, с Запада, постоянно и возмущенно писали «Олонецкие губернские ведомости».
Например, в 102-м номере от 1905 года журналист Захаров констатирует: разгул хулиганства позволяет говорить о «какой-то дикой разнузданности в среде местной молодежи». Пишет он в первую очередь о Петрозаводске, но специально оговаривается: преступная мода постепенно проникает в обитель нравственности и традиционной русской (карельской) драки — в деревню.
В 1905 году проблема потребовала вмешательства самого губернатора Николая Васильевича Протасьева. Он обратился к родителям потенциальных и актуальных уже хулиганов с настойчивой просьбой: воспитывайте детей более строго, чтобы не было на улицах Петрозаводска такого безобразия.

«Песен не петь. Водку не пить. Вести себя тихо». Драка во дворе ночлежного дома, Нижний Новгород, 1895. Фото: Михаил Дмитриев / bolesmir.ru
Безобразие заключалось в том, что молодые люди (группами и в одиночку) хватали подручные орудия вроде палок, ножей и кистеней и нападали на мирных прохожих. Делали они это, судя по всему, с целью грабежа. Культура хулиганов, как писали петрозаводские журналисты, пришла из Лондона — в Петербург, а потом и в Олонецкую губернию.
Очень удивлялись журналисты разнице между хулиганами питерскими и петрозаводскими. Первые — нормальные! — были настоящими люмпенами: без денег, без работы, без семьи, иногда — без жилья. Сколачивать банды и идти на разбой их подталкивала нужда.
Другое дело хулиган петрозаводский, провинциальный. Судя по полицейским отчетам, делом этим промышляли часто относительно обеспеченные молодые люди с неплохой по меркам того времени работой — на заводе, например. И бил карельский хулиган кого попало, действовал как настоящий художник: дрался ради самой драки.
Карельский подросток любил «въ сообществѣ десятка своихъ прiятелей, пользуясь ночною темнотою, ударить камнемъ стоящаго на посту городового; не сознавая того, что городовой преслѣдуетъ безобразiе не потому, что оно не нравится лично ему, а потому, что онъ по долгу службы обязанъ это дѣлать». И был он за это преследуем законом, а иногда и посажен в тюрьму, писали Олонецкие губернские ведомости.
Наказание / Kuristus
В XIX веке в России, и Олонецкая губерния здесь не исключение, было так: если преступление совершалось в городе и было достаточно серьезным (степень определялась законом), преступника задерживали представители власти — полицейские. Если же злодейство происходило в деревне, наказание обычно организовывали местные силы.
Максим Пулькин,
старший научный сотрудник сектора истории ИЯЛИ КарНЦ РАН:
— В деревне было очень сильное мирское самоуправление (мир — «община»). Выборные десятские, нечто среднее между полицейским и дружинником. Часто сами они не особенно и хотели выполнять такие обязанности, но мир, то есть остальные крестьяне, заставляли.
В этом случае иногда происходило судилище на основе обычного права: человека могли подвергнуть телесному наказанию, общественному осуждению. Этим дело и заканчивалось.
Другой вариант — более официальный — предполагал вмешательство урядников. Они по свежим следам на основе закона расследовали преступление.

Максим Пулькин (фото из личного архива)
— К примеру, случилась такая реальная ситуация: жена отравила мужа. Урядник собрал рвоту отравленного и доставил ее на экспертизу — посмотрите, мол, что это такое? Эксперты устанавливают: мышьяк. Или вот пришла женщина и говорит, что у нее украли простыню. Урядник пошел по свежему следу — и нашел вора!
Институт полицейских урядников появился в конце 1870-х, и цель его была в исполнении полицейских обязанностей на местах, а также в надзоре за сотскими и десятскими (выборными представителями общинного самоуправления).
Урядников комплектовали из разных сословий, но чаще всего ими становились отставные чиновники, реже — мелкие дворяне, крестьяне и мещане. В 1890 году в Олонецкой губернии работало 85 полицейских урядников, из них 12 — в Петрозаводском уезде.
- Форма одежды полицейского урядника, 1884. Источник: fanread.ru
- Карикатура из журнала «Осколки». Источник: fanread.ru
Урядники, в отличие от тех же десятских, сидели на государственном жаловании. В 1906 году, например, урядник получал 200 рублей в год плюс еще 50 рублей на обмундирование.
Большую часть служебного времени урядник отводил на патрулирование участка, для чего за свой счет обязан был (если относился к классу конных, а их было большинство) купить лошадь.

Государство помогало лишь деньгами на «фуражное довольствие». Источник: livejournal.com
Подозреваемого в серьёзном преступлении представители власти доставляли в уездную тюрьму. Арест, суд — и по его итогам решалась судьба заключенного: либо снова за решетку, либо на свободу. Шансы в среднем были один к трем в пользу тюрьмы.
Тюрьма / Tyrmy
В конце XIX века в Олонецкой губернии насчитывалось пять тюрем: четыре уездные и одна губернская — в Петрозаводске. Из уездных центров тюрем не было только в Пудоже и Повенце. То есть сначала они там были, но потом из-за «незначительного числа арестантов» их упразднили и заменили «арестантскими помещениями» при отделениях полиции.
В Петрозаводске тюрьма была солидная: каменная, трехэтажная, сразу построенная как помещение для содержания преступников.
- Тюремный замок в Петрозаводске построили в 1862 году. Фото: Игорь Георгиевский
- Третьего этажа замок лишился в годы Великой Отечественной войны. Источник: livejournal.com
Арестантов в конце века, по сегодняшним меркам, было не очень много. В 1899 году, например, в петрозаводской тюрьме сидело 43 человека, в олонецкой — 15, в лодейнопольской — 14, в вытегорской — 28, в каргопольской — 27.
Тюремный замок в Петрозаводске (сегодня следственный изолятор № 1) был построен для 47 человек. Оказался тесен: для размещения арестантов вскоре были отремонтированы флигели на Круглой площади (сегодня площадь Ленина).
В одном из флигелей устроили 10 камер-одиночек: «покои невелики, но чисты, светлы и очень теплы». Во втором флигеле, в подвальном этаже, размещалась кухня и караульня, над ними были две общие камеры на 16 арестантов, еще выше — мастерская. Тюремные флигели были торжественно освящены и приняли первых заключённых осенью 1864 года.
- Круглая площадь в 1775 году. Рисунок из архива Н.Куспака
- Сегодня эти здания принадлежат Национальному музею Карелии. Фото: Игорь Георгиевский
- «Покои невелики, но чисты, светлы и очень теплы». Фото: Игорь Георгиевский
Тюремные власти трепетно относились к духовному очищению сидельцев. Для этого при тюрьмах открывались церкви — в Петрозаводске, Вытегре, Лодейном Поле. Остальным приходилось довольствоваться богослужениями в камерах, которые наделялись статусом часовен. Государство и церковь в вопросах перевоспитания шли рука об руку.
В 1899 году в «Олонецких епархиальных ведомостях» вышла статья за авторством протоиерея Адриана Благовещенского. Она была посвящена двум событиям — храмовому празднику при петрозаводской тюремной церкви и проводам на новую должность начальника губернской тюрьмы.
Прощание с начальником автор описывает как «трогательное». По окончании литургии протоиерей (он же автор статьи) поблагодарил чиновника за усердный труд. После духовного лица слово передали лицу светскому — одному из арестантов:
«Многоуважаемый начальникъ, Ѳ. Яковлевичъ! позвольте мнѣ отъ лица всѣхъ моихъ товарищей по заключенію подтвердятъ, что высказалъ въ церкви нашъ батюшка и выразить вамъ глубокое сожалѣніе о разставаніи васъ съ нами и высказать истинную благодарность, что Вы заботились о насъ, какъ отецъ о дѣтяхъ, и своимъ обращеніемъ проливали утѣшеніе и отраду въ наши сердца. Воздастъ же Господь вамъ за это!».
Оздоравливать арестантов нравственно должны были обязательные общественно полезные работы. В Министерстве юстиции считали, что труд позволяет поддерживать заключенных в хорошей физической форме и одновременно приносит тюрьме доход (или, по крайней мере, сокращает расходы).
Арестанты работали и в самой тюрьме, и за ее стенами. Они могли участвовать в сенокосе, жатве, плотничьих работах, быть грузчиками и дворниками. Непосредственно в тюрьмах заключенные шили одежду, плели рыболовные сети, изготавливали лапти и коврики, переплетали книги.
- За стены тюрьмы без кандалов арестанты не выходили. Источник: photochronograph.ru
- Кандалы ножные на заклепках. Первые письменные указания о заковывании в железо подследственных арестантов встречаются в Двинской уставной грамоте (1397). Из коллекции Национального музея Карелии
- Кандалы ручные с замком. По указу 1822 года вес мужских кандалов был установлен 5-5,5 фунтов. Из коллекции Национального музея Карелии
Тюремное начальство результатами системы было довольно и делилось своей радостью с начальством вышестоящим. В Петербург сообщалось о том, что труд «благотворно действует на нравственную сторону осужденных», а по освобождении некоторые из них еще и открывают собственные мастерские, где продолжают заниматься общественно полезным делом.
На продовольствие одного арестованного казна отпускала:
- до 1909 года в петрозаводской тюрьме — 8 копеек, в уездных тюрьмах 7 копеек в сутки;
- в 1910-1912 годах в Петрозаводской тюрьме — 11 копеек, в уездных тюрьмах — 10 копеек в сутки;
- с 1913 года в Петрозаводской тюрьме — 13 копеек, в уездных тюрьмах — 9-10 копеек в сутки.
Подстоличная Сибирь / Lähäine Siberi
Карелия традиционно была в России местом ссылки: край суровый, но близкий к Москве-Петербургу. В тюрьмах Петрозаводска пересыльных арестантов случалось в разы больше, чем местных преступников.
Иногда ссылка не была официальной: неудобных личностей отправляли к нам как бы с особыми поручениями по службе. Именно так в 1784 году в Петрозаводске появился Гавриила Романович Державин. При дворе на тот момент оказался неугоден, а на Сибирь не нагрешил. И стал первым карельским (точнее, олонецким) губернатором.

Летом 1785 года Гаврила Романович лично отправился для обозрения Олонецкого края. На лошадях и в лодке прошел около двух тысяч километров и составил «Подённую записку». Фото: Игорь Георгиевский
В 1826 году в Олонецкую губернию в политическую ссылку прибывает Федор Николаевич Глинка. Глинка — участник войны 1812 года, поэт и публицист. С декабристами дружил, но насилия не поддерживал. После декабрьского восстания тем не менее был арестован, признан причастным к делу, уволен в отставку и сослан в Петрозаводск. Где ему позволили поступить на гражданскую службу.
- Фёдор Глинка. Источник: pobedpix.com
- Книга Глинки «Дева карельских лесов». Из коллекции Национального музея Карелии
Глинка первым опубликовал переводы карельских рун для русского читателя. В Петрозаводске он познакомился с основателем финно-угроведения профессором Андреасом Шегреном — тот и перевел «некоторые из финских стихотворений, имеющих свой особенный размер, без рифм, но звучный и приятный», писал в 1827 году ссыльный поэт.
До издания перво-Калевалы Леннрота оставалось еще восемь лет.
Рождение арфы
Сам наш старый Вейнамена,
Сам ладьи изобретатель,
Изобрел и сделал арфу,
Из чего ж у арфы обруч?
Из карельския березы.
Из чего колки у арфы?
Из каленых спиц дубовых.
Из чего у арфы струны?
Из волосьев бурных коней.
И сзывает Вейнамена
Дев и юношей игривых,
Чтоб порадовались арфой,
Прозвенев ее струнами…
Второе важнейшее открытие фольклорной традиции, сохранившейся в Карелии, сделал другой политический ссыльный.
- Павел Рыбников. Из собрания Национального архива Карелии
- Письмо П.Рыбникова Олонецкому губернатору Волкову. Из собрания Национального архива Карелии
В 1859 году в Петрозаводск приехал Павел Николаевич Рыбников — блестяще образованный славянофил и этнограф. Арестован за принадлежность к революционному кружку, сослан в Олонецкую губернию на семь лет. В Петрозаводске Рыбников служил секретарем Губернского статистического комитета, а посему пользовался относительной свободой передвижения.
В Карелии Павел Николаевич продолжил дело «хождения в народ». Как ссыльный, он не мог путешествовать открыто, но обращал свои служебные визиты в научные экспедиции. Собирал артефакты и фольклор, писал научные статьи в «Олонецкие губернские ведомости». Ездил много, вот приблизительная карта его путешествий по Карелии только за 1860 год:
Сенсацией для научного мира стало открытие Рыбниковым не утраченной в Олонецкой губернии былинной традиции. Однажды учёный отправился на лодке в Пудож и заночевал на одном из островов Онежского озера. Там он и услышал впервые былину о князе Владимире.
«Много я впоследствии слыхал редких былин, помню древние превосходные напевы; пели их певцы с отличным голосом и мастерскою дикцею, а по правде скажу, не чувствовал уже никогда того свежего впечатления, которое произвели плохие варианты былин, пропетые разбитым голосом старика Леонтья на Шуй-наволоке».
Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира
Собиралось пированьице — почестей пир
На многих князей, на бояр,
На русских могучих богатырей
И на всю паленицу удалую.
Находка политического ссыльного наделала много шума в научном обществе, навсегда закрепив за Карелией статус не только «подстоличной Сибири», но и «Исландии русского эпоса».
Ссылка / Karkoitandu
Ссылали в Карелию не только поэтов — среди столичных изгнанников случались и царские особы. В Смутные времена на престол взошел Борис Годунов — и подверг истязаниям весь род Романовых, и «разметалъ членовъ опасной ему фамилiи по глухимъ концамъ сѣверныхъ окраин Руси» (Н.Шайжинъ, Заонежская заточница, 1912).
В 1601 году в деревню Толвуя была выслана постриженная в монахини боярыня Ксения Ивановна Романова (в иночестве Марфа). В Заонежье она прибыла зимой — из Толвуйского погоста, выбранного местом заточения, не сбежишь.
- Портрет Марфы, жены Ф.Н. Романова. Неизвестный художник, конец XVIII—начало ХIХ веков. Из собрания Эрмитажа
- Из «Олонецких губернских ведомостей»
Невольной пострижнице было в те годы всего 30 лет, она печалилась о судьбе своих детей и мужа, не имея от них никаких вестей. Сочувствуя заточнице во всем (в том числе и в болезнях её), деревенские жители показали инокине Марфе целебный источник, который и до сих пор известен как «Царицын ключ».
Весной 1602 года царь Борис смилостивился и снял строгое заключение. Марфе разрешили ездить к Спасу в Кижи, в Сенную Губу и за Онего в Чёлмужи, где ее угощали и «дарили сигами».
Спустя ещё три года Василий Шуйский помиловал Марфу. По обету она заложила в Чёлмужах церковь и нарекла ее Богоявленской — в благодарность за чудо своего спасения.
- Церковь Богоявления Господня на берегу Повенецкого залива — один из самых старых деревянных храмов Карелии. Фото: Игорь Георгиевский
- Прихода здесь нет. Фото: Игорь Георгиевский
- За церковью следят три молодые женщины, жительницы Чёлмужей. Фото: Игорь Георгиевский
- Карельская епархия в жизни Чёлмужской церкви не участвует. Фото: Игорь Георгиевский
- Церковь Богоявления в Чёлмужах признана объектом культурного наследия федерального значения. Фото: Игорь Георгиевский
К уроку готовились:
Евгений Лисаков, журналист
Татьяна Бердашева, научный сотрудник Национального музея Карелии
Наталья Антонова, переводчик
Игорь Георгиевский, фотограф
Павел Степура, дизайнер
Елена Фомина, автор и редактор проекта «Уроки карельского»
При поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями
«Уроки карельского», национальный проект «Республики». Мы рассказываем о народе, который столетиями жил на берегах Онежского и Ладожского озер, о наших предках и современниках — о людях. История и природоведение, литература и география, труды и физкультура: всё о карелах, финнах, вепсах.