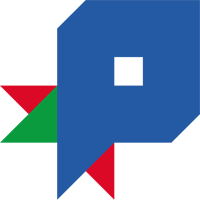Фото: pixabay.com
1.
Я к ней приходил – я попал на крючок –
садился уныло у детской кроватки,
а Юлька молчала, расправив лопатки.
Я чушь, вероятно, там нёс… но молчок!
Да, я уходил, оглушённый в тот раз
громадностью боли, меня посетившей,
как юный боксёр, апперкот получивший.
Да, город был праздником, но не для нас.
По жести его дождевых желобов
струилась без продыху ночь ледяная,
в пивных колобродила площадь Сенная,
но не было денег на грохот трамвая,
и нищая мне улыбалась
любовь.
2.
А стопка книг (она служила ножкой)
пылилась под диваном, и пальто
поношенное сохло (драной кошкой
я воротник назвал бы). «Ну и что?..
Да ровно ничего! – себе ответил
бесстрашно я, – тоска, и бедность, и
несчастья, и превратности любви,
и всё на той же трудно жить планете».
3.
Штопор очень серьёзно ввинтила, рванула
и, в бокалы дешёвый «Кубанский» кагор
разливая, сказала: – Не падай со стула.
Я люблю тебя! Очень! Крэкс-фэкс! Мутабор!..
И добавила тихо, совсем уж нежданно:
– Всё, что хочешь, исполню. Считай! Ну, раз-два…
Так вот шла на мужчин непорочная Жанна
и гудела над ней боевая труба.
А на улице снег на дома и прохожих
тихо-тихо ложился, и не было двух
на тебя и меня в эту ночь непохожих.
А потом и светильник над ложем потух!
4.
Был месяц солнечный апрель,
крутилась в парке карусель,
и ты шепнула: – Да,
мы будем долго жить с тобой,
не протрубит пока отбой
архангела труба!..
А там, высОко, облака
по небу плыли, и рука
отозвалась теплом.
– Как хорошо, – ответил я, –
что взяли мир в учителя
с его добром и злом!..
5.
Что же сидишь, бесценная,
щуря глаза так сладко?
Кротость – твоя вселенная,
нежность – твоя загадка.
Хочешь, луну на блюдечке
или звезду в тарелке?
Я тебя спрячу в муфточке
из настоящей белки.
Стану поить рассветами,
озеро дам в подарок,
ящичек мой с секретами,
книжечка без помарок.
Лет мне, возможно, тысячи
здесь не сыскать другую!
Фидий тебя ли высечет
мраморную, нагую?
Так я всю жизнь батистово,
как адвокат сестерций,
кинусь любить неистово –
до замиранья сердца.
6.
Что-то часто писала про друга Колю,
присылала аттачменты с летним Крымом:
ты на пляже в Алуште, ты горькой солью
вся покрыта под солнцем неугасимым,
под палящим, – с мужчиной ты ешь черешню
и позируешь: «Вот я, смотрите, – нимфа!»
А теперь расскажи мне сейчас, утешь, ну,
как ты любишь медведя седого, скифа,
сочинителя песенок… Скажешь: «Винни,
ах, я вижу своё голубое платье,
взгляд безумный безудержно синий-синий,
море мёда, шарик воздушный, счастье».
Что для женщины море? Эдем, и древо,
и земля, которая так желанна,
где Адам заплакал, смеялась Ева,
всё венок плела, и смотрела странно.
7.
Остановка автобуса одиннадцатого маршрута –
снег искрится, остро пахнет мандариновой коркой.
У тебя под шубой свитер и под ним почему-то
ничего, но тело горячее, как за шторкой
в астраханском поезде летом степь, верблюды,
азиатский пыльный пейзаж с водокачкой… Я бы
в этот день морозный ради твоей причуды
мог бы оды слагать, рифмовать золотые ямбы.
Но внезапно – хлоп! – из мутоновой, жаркой шубы
фотография чья-то выпала (мне-то какое дело?
Ну, мужчина, о да!) Но нервно ты прикусила губы
и сказала: «Спешишь ты и слишком смело
любишь так, словно завтра обоих нас похоронят!»…
Вот и всё. Остановка. Равнодушно синеет небо.
На снегу возле урны растрёпанная ворона
деловито валяет мёрзлую корку хлеба.
9.
Что предложит память? Невыносим
даже лёгкий призрак её, намёк.
В Старой Руссе есть настоящий сын,
человечек взрослый уже, сынок.
Всё, что помню, – рожицу всю в пюре
и колготки рваные. А конца
нету слухам: жив он в такой норе,
что… Прости ты, маленький мой, отца.
Как носил тебя, помнится, на руках
и подгузник вовремя, да, менял.
Ан, судьба, как молния в облаках, –
всё равно догонит. И вот она
разлучила, но не убила, нет.
Сколько раз о смерти её просил!
Будет время – встретимся через лет,
может, двадцать, ах, если достанет сил.
9.
В ботах тётка, что мзду собирает молча,
тряпка, швабра, изодранный стул, коробка.
Мужики – у-у-у! – исшарканный кафель мочат,
попадая мимо. А ей-то кротко
всё приходится… О, как надоело это!
О, раба привокзального туалета!
О, дурында-судьба!..
Но ведь было же, было: примой
стать хотела в театре, да как-то сразу –
то больные дети, то муж любимый,
загудевший с получки. Не знаю, какому сглазу
эта жизнь подверглась? А всё же зайду, оправлюсь
и скажу на прощание: – До свиданья…
Иногда я сам себе удивляюсь:
– Тяжело одной-то всё время, Таня?..
Глянет вдруг ледяными глазами трупа:
– А иди ты… – Иду… Почему-то жженье
от ненужных слёз. До чего же глупо!
Для неё, что это сочувствие?.. Извращенье?..
10.
Присмотрись к этой сумрачной жизни в метро,
к человеческой давке бесполой, бесцельной,
к этой женщине, что прижимает бедро
к твоему слишком тесно… сойдёт на Удельной
и не скажет ни слова – такая игра
бесполезная – выцвели рыхлые щёки,
может, плакали дети сегодня с утра
и семейного счастья не склеить осколки.
У метро серый дождик, киоски, туман,
инвалид полусонный стреляет на бедность,
раскорячился в луже юнец-наркоман,
и на лицах прохожих тревожная бледность.
Ты же знаешь: всё-всё здесь прогнило насквозь.
С объявленьями брачными купишь газету:
«Миловидная женщина ищет…» И гвоздь
он забьёт и не станет курить сигарету.
11.
Катастрофой, бензином и корюшкой
пахнут майские улицы – ах! –
ох! – Балтийское моё морюшко,
и Вселенная на плечах
у атлантов, и, Господи, горюшко
трёхсотлетнее, жгучее, заячье,
все дороги приводят к нему
на сырое Смоленское кладбище,
где не спится бомжу одному.
В вешнем небе раздрай и пожарище –
ходят ангелы, в трубы трубя…
Не отыщешь для пьянки товарища…
И стою, не пойму сам себя.