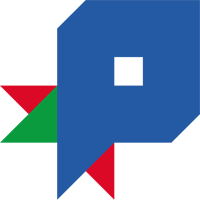Что может присниться человеку, вернувшемуся с войны? И всего лишь в коротком утреннем забытьи в конце бессонной на самом деле ночи?
Что из приснившегося может запомнить человек, если из забытья его поднимает стук полицейской дубинки по дереву и грубый властный голос:
— Документы предъявите, гражданин!
1.
Начало июня. Пятый час утра. Сквер рядом с привокзальной площадью провинциального городка. Рядом с парковой скамейкой, на которой, укрывшись развернутой газетой, спит Максим, стоит сержант милиции и бесцеремонно стучит дубинкой по деревянной спинке скамейки.
Максим просыпается.
— Не жарко под газеткой-то? — интересуется сержант.
Максим садится, аккуратно сворачивает газету.
— Не очень, но теплее. Хотя, наверно, это всего лишь самовнушение…
— Документы!
— Что?
— Документы, говорю, покажи!
Максим достает из внутреннего кармана куртки военный билет.
— По правилам, в подобных случаях некоторые обязаны себя по имени-должности назвать и удостоверение предъявить. В раскрытом виде.
Милиционер, хмыкнув, берет военный билет Максима.
— А книксен сделать не надо? Я, между прочим, при исполнении, а ты – по всем признакам бомж, спящий на парковой скамейке в общественном месте, что уже есть факт наличия противоправных действий…
Сержант внимательно, демонстративно не торопясь, рассматривает документы.
— Какая речь! «Личность… Факт наличия»!
— А давай в отделении о правильной речи поговорим? У нас старшой такие диспуты любит! Потому как главный аргумент, — сержант показывает Максиму кулак, — супротив моего у него в три раза весомее… Чекалин, Максим Олегович… — после короткой паузы, присвистнув: — Ну, ничего себе! Прошу прощения! – сержант, козырнув, возвращает документы Максиму.
— Все нормально, — примирительно говорит Максим и убирает военный билет в карман.
Сержант присаживается рядом.
— Нет, серьезно, я же сам год назад дембельнулся, понимаю. Как сейчас, помню: стою на перроне… Небо синее, в воздухе от рельсовых путей креозотом пахнет, и вокруг все такое знакомое, родное…
По громкой связи голос дежурной: «Внимание! По четвертому пути проходит маневровый!» Шум колес прокатившегося мимо поезда.
Милиционер протягивает Максиму руку.
— Меня, кстати, Владимиром зовут.
Максим отвечает крепким рукопожатием.
— Тебя каким ветром к нам занесло? Судя по билету, ты сейчас должен в питерском поезде ехать. Отстал что ли? – спрашивает Владимир.
— Да нет. Стоял в тамбуре, воздухом дышал. Потом название станции увидел и вышел. Хорошо, вещей немного. Успел собраться, пока поезд не тронулся.
— А сам ты не тронулся часом? Следующий твой поезд… — Владимир смотрит на часы, — через двадцать часов!
Максим какое-то время молчит, напряженно всматриваясь в пространство перед собой невидящими глазами.
— Ты Березкину Валентину Александровну знаешь?
— Учительницу из Третьей школы? – Владимир резко оборачивается. — Так ты…
— Да.
Теперь и у Владимира взгляд становится неподвижным, устремленным… в никуда.
— Нелегкий тебе разговор предстоит, Макс.
— Бывают ситуации, когда выбора нет.
— Слушай, а все-таки айда к нам в дежурку? Чайку вскипятим…
— Спасибо, не стоит. Рассвело уже. Пойду…
— Да ладно тебе! – Владимир достает из кобуры сверток с бутербродами. — Угощайся!
— Спасибо! – Максим, не ломаясь, берет бутерброд и достает из сумки, нечаянно «засветив» голубой вэдэвэшный берет, начатую полторашку минералки и стопку пластиковых стаканчиков, наливает воды себе и Владимиру.
Городок постепенно просыпается – это чувствуется по нарастанию уличных шумов.
— Вообще-то в дежурку, и правда, идти не фонтан: у нас в обезьяннике Кыча парится.
— Какая такая кыча? – недоумевает Максим.
— Крутяшок местный. Ему повестка на завтра пришла из военкомата – вот и куролесит! Молотит под конкретного пацана, а на деле — обыкновенная шпана.
— Как ты нелестно о нем…
— А как иначе? Строит из себя уездного предводителя команчей, а когда мы его в сортире вокзальном повязали, первым делом наябедничал, как его какой-то нехороший человек обидел.
— На меня намекаешь?
— А кому еще? После Кычи я тебя за последние два часа первого здесь вижу!
— И пальцем никого не трогал, честное слово!
Владимир улыбается – так, что Максиму приходится оправдываться:
— Я вашего Кычу по-любому не тронул бы! Ему, говоришь, завтра в армию? Может, на мое место пошлют…
Максим нервно сминает пластиковый стаканчик в бесформенный комок и жадно пьет прямо из бутылки.
— Школу я найду, а ты еще подскажи, где у вас улица Майданова находится.
— Перейдешь через мост на ту сторону, – Владимир показывает рукой, куда именно, — и через частный сектор до второго перекрестка. Там налево. На Майданова четыре пятиэтажки всего – увидишь. Кстати, какой тебе номер дома нужен?
— Четвертый.
— А кто в четвертом доме по Майданова проживающий тебя интересует, не секрет?
— Так… Девчонка одна.
— Галей звать?
— Ты телепат, Вова?
— Просто все сходится: адрес, имя… Подруга моей двоюродной сестрицы Зойки. Кыча как раз ее кадрить пытается. Девчонка из себя видная. По Зойкиным словам, сегодня должна из Москвы приехать на каникулы. Только учти, Макс, к Гальке на облезлой козе не подъедешь: та еще штучка! Тебе лягушки нравятся?
— Лягушки?!
— Она так кандидатов в кавалеры проверяет! Типа любит лягушек по вечерам слушать, а одна на пруд через кладбище идти боится…
— Через кладбище?! Учту, — Максим поднимается. — Пора! Пока, Володя, приятно было познакомиться!
Владимир и Максим прощаются, как прощаются только дембеля, да и то не все.
2.
Максим идет по узким улочкам частного сектора, жадно всматриваясь и вслушиваясь в каждую мелочь лишенной военной суеты и тревожного напряжения мирной жизни.
Разбитый асфальт, где выбоины на проезжей части засыпаны золой. По бокам вдоль заборов, до половины заросших запыленными лопухами, тянутся деревянные тротуары с черными провалами на месте сгнивших досок. Через кусты палисадников из-за заборов видны крытые почерневшим и потрескавшимся шифером одноэтажные и большей частью деревянные дома. Крики проснувшихся петухов и лай цепных псов перебивают затейливые соловьиные трели…
Женщина с пустыми ведрами на коромысле, открыв калитку, останавливается, чтобы дать Максиму пройти мимо, потому что, согласно пословице, тому, кому баба с пустыми ведрами пересечет дорогу, удачи не видать. «Спасибо!» — кивает Максим и чуть ускоряет шаг.
У пристроившегося перекурить лавочке перед настежь распахнутым гаражом мужика в замызганной мазутом рубашке Максим спрашивает:
— На Майданова я правильно иду?
Мужик кивает.
— А если на кладбище, то в какую сторону?
— Не рано ли? – усмехается мужик.
— Я теперь туда по-любому опаздываю, — отвечает Максим, улыбаясь в ответ, но едва проходит мимо, улыбка стирается с его вдруг ставшего каменным лица.
3.
В обычный двор пятиэтажного дома, где подъезд с обшарпанной дверью, стены с обвалившейся штукатуркой, а перед подъездом – две лавочки напротив одна другой, выходят Галя и, сгибаясь под тяжестью дорожного чемодана, Кыча.
— У тебя там кирпичи или гантели? — Кыча ставит чемодан, с облегчением распрямляет спину и пытается обнять девушку, — Мне положено вознаграждение!
Галя уклоняется.
— О каком вознаграждении речь? Всегда найдутся желающие помочь симпатичной студентке!
Кыча снова пытается привлечь ее к себе, и снова Галя уклонятся.
— Который час?
Кыча смотрит на часы:
— Половина девятого.
— А соловьи заливаются!
— Они с конца мая так…
— А лягушки на нашем пруду поют?
— Лягушки?!
— Какой ты зануда, Аркашка! Ладно, спасибо за помощь, но…
— Давай еще немного постоим? Я же тебя целых полгода не видел!
— Между прочим, и я дома полгода не была, по родителям соскучилась, по маминым пирожкам…
— А твои вроде на дачу уехали!
Галя вздыхает.
— Значит, пирожки отменяются.
— А меня в армию забирают! — пытается давить на жалость Кыча.
— Напрашиваешься, чтобы я тебя домой пригласила? Пока родителей дома нет?
— Ждать хотя бы будешь? – после короткой паузы дрогнувшим голосом спрашивает Кыча.
Галя не отвечает.
— Может, вечером в клуб Железнодорожников на дискотеку сходим?
— Я вечером пойду лягушек слушать. Проводишь меня?
— Издеваешься?!
Во дворе появляется Максим. Услышав про лягушек, он останавливается и несколько секунд внимательно рассматривает Галю. Потом подходит ближе.
— Не напрягайте скудную фантазию этого юноши, девушка, — я с удовольствием составлю вам компанию!
Галя с изумлением смотрит на Максима. Кыча, набычившись, становится между ними.
— Ты чё, клоун, на грубость нарываешься?
Максим опускает сумку на скамейку около подъезда.
— Вообще-то я с Галиной поговорить хотел, а с девушками я всегда вежлив и тактичен, — Максим, прищурившись, смотрит на Кычу и улыбается.
— Ах, ты… – кипятится Кыча, но в присутствии Гали сдерживается. — Поговорим еще!
— Нет уж, мальчики! Я здесь явно лишняя! — Галя решительно подхватывает чемодан и уходит в подъезд.
Кыча сбрасывает с руки часы.
— Все, клоун! Щас я тебя инвалидом делать буду!
— Подожди! Твою маму Софьей Борисовной звать?
Кыча замирает.
— Нет, Надеждой Сергеевной… А причем здесь моя мать?!!
Максим садится на скамейку, жестом предлагая Кыче сделать то же самое.
-А притом. От неожиданности ты растерялся, открылся – и как минимум два удара пропустил бы.
— И чё?
— А ничё! Нечего нам, Арканя, с тобой делить, а выяснять, кто круче, мне неинтересно.
Кыча присаживается рядом.
— А ты вообще кто такой?
— А что тебя конкретно интересует? Социальное положение? Сангвиник я или холерик?
— Зубы не заговаривай! Прямо говори, зачем к моей девушке приставал?
— Это допрос? — Максим улыбается. — Скажи еще: «This is my city!»
— Намекаешь, ты Рэмбо? Вали отсюда, и чтобы я тебя с Галькой не видел!
— Значит, это все-таки Галя?
— А типа ты не знал?
— Догадывался…
— Что значит, догадывался? — Кыча снова начинает злиться.
— Тебе этого не понять.
— Опять наезжаешь? А по морде?
Максим не отвечает. Кыча понемногу успокаивается, и следующий его вопрос звучит вполне миролюбиво:
— Как хоть звать-то тебя?
— Называй меня просто «Приезжий». И насчет Гальки не волнуйся – я уеду поездом на полпервого ночи… Расскажи лучше, как она?
— Ничего умнее придумать не мог? Кроме как на нервы мне капать за день, как меня в армию заберут и я два года Гальки не увижу?
На балкон второго этажа слева от подъезда незамеченной выходит Галя.
— Ну, учится в Москве в Педагогическом. На второй курс перешла.
— А насчет кавалеров?
— Местные у меня под контролем. А как в Москве… — Кыча разводит руками.
— Ясно. Новые горизонты, возможности… Ты, Аркадий, не обижайся, но у тебя шансов практически ноль.
— Еще будем посмотреть!
— Смотри, не смотри, а чтобы любить прекрасную принцессу, самому принцем быть надо! В Москву уехать, в институт поступить…
— Еще чего! Мне и здесь неплохо! Работаю на классном месте – в депо и по автосервису. Да и поздно – мне завтра в армию!
— Страшно?
— Не по себе как-то…
— Не бойся. Не ты первый, не ты последний. И, собственно, что ты на гражданке теряешь? Бултыхаешься, как… это самое… в проруби!
— Гальку я теряю, вот что!
— Я-то тебе не соперник. Мне бы только привет передать.
Кыча вздыхает, поднимает глаза… и замечает Галю.
— Коли так, мешать не буду, — Кыча стушевывается и торопливо уходит.
— И как все понимать?! – Галя едва сдерживается, чтобы не запустить в Максима стоящим на подоконнике цветочным горшком.
Максим удивленно оборачивается.
— Вау! Сцена из Шекспира: «Джульетта на балконе»!
— Послушай, ты кто такой, чтобы обо мне сплетни распускать?
— Сплетни?!
— А когда кто-то о ком-то за глаза свои фантазии озвучивает, это как называется?
— Действительно, виноват… — Максим встает и становится под балконом. – Готов искупить. А давай я догоню Кычу и скажу: «Извини, парень, насчет того, что тебе с Галей ничего не светит, я погорячился, а она ночей не спит и только о тебе, желанном, думает!» Ладушки?
— Я сейчас в тебя точно запущу чем-нибудь!
— Мне нравится, как ты сердишься!
— Меня это не интересует!
— Совсем?
— Совсем! Так что ступай мимо!
Максим отвечает не сразу:
— Не могу. Один мой знакомый на моем месте…
— Так ты всего лишь сводник?! Поверенный в делах?! Как мне все это надоело!
— Поэтому у меня лично ни малейшего желания не возникает клинья к тебе подбивать!
— И слава Богу!- отвечает Галя с деланным облегчением и уходит.
— Поговорили! – Максим растерянно разводит руками, задумчиво бродит под окнами, наклоняется, отыскивает на земле несколько камешков и начинает их один за другим кидать в окна Галиной квартиры.
Разъяренная Галя выходит на балкон.
— С ума сошел? Хочешь, чтобы соседи милицию вызвали?
— Размечталась! Соседи к подоконникам прилипли, затаив дыхание! Кстати, абы не потакать их нездоровому любопытству, пригласи меня на чашечку кофе?
— Какая наглость!
— Наглость, не спорю! Но, согласись, она тебе импонирует и именно она вызывает интерес к моей скромной персоне. Так что ставь кофе и открывай двери.
— А моя репутация? – не выдержав, улыбается Галя.
— Заботиться о репутации, когда речь идет о спасении ближнего?! Неужели в тебе нет ни капли сострадания к отставшему от поезда пассажиру? Да не оскудеет рука дающего! Или тебе кофе жалко?
— Позволь, хозяюшка, глоток водицы испить, а то так есть хочется, что переночевать негде! И откуда ты откопался на мою голову! Пожалуй, сама милицию вызову, — Галя, гордо тряхнув головой, уходит в комнату.
Максим садится на скамейку, закидывает руки за голову, закрывает глаза…
…и сразу, без перехода соловьиная трель сменяется лающими очередями АКМ, мирная пятиэтажка райцентра в российской нечерноземной глубинке перекрывается мощным взрывом и осыпается рухнувшими вниз стенами такой же «брежневской» пятиэтажки рядом с площадью Минутка – той самой, в Грозном… Но это всего лишь секундное наваждение, отрывок кошмара, который несколько месяцев будет видеть Максим вместо нормальных человеческих снов и который долгие годы спустя изредка, но с удручающей периодичностью будет приходить к нему по ночам…
Максим открывает глаза, вновь слышит трель пернатого Карузо и видит Кычу, который ходит рядом, внимательно глядя под ноги, заглядывает под скамейку, под деревья на газоне перед окнами дома.
— Часы где-то оставил… Ага! – Кыча находит часы, надевает на руку, но ходить не торопится. — Слушай, приезжий… Ты, когда сюда шел, мимо Детского центра проходил?
— Такое двухэтажное здание с верандами?
— Ну да. Мой дом рядом. Короче, хочу тебя пригласить с нами посидеть – я во дворе что-то вроде отвальной хочу устроить.
— Но мы почти не знакомы…
— Неважно! Когда ты про службу говорил, мне, честное слово, почему-то легче на душе стало… Ты подваливай, в натуре, часам к пяти – я ждать буду.
Максим остается один недолго: из подъезда выходит Галя с кофейником и чашечкой на подносе.
— Вот так номер! Не ожидал! Это даже не кофе в постель – это гораздо круче!
Галя садится на скамейку и ставит поднос между собой и Максимом, отворачивается якобы с равнодушным видом.
— Хотел кофе – получи! Но на большее не рассчитывай. Ты не в моем вкусе!
— Что меня вполне устраивает, — Максим с удовольствием пьет кофе. – Мне бы передать тебе что-то вроде привета.
— Почему-то рифма на ум пришла: «привета с того света»!
Максим вздрагивает и с трудом удерживает чашечку в руках, но отвечает почти весело:
— О, да у тебя дар к сочинительству! Наверняка и заветная тетрадочка где-нибудь в укромном местечке пылится? Почитай что-нибудь, так сказать, «из ранних»!
— С чего бы?
— А ты вообрази, что я твой двоюродный брат.
— Всегда завидовала подружкам, у которых есть старшие братья. Но стихов читать не буду – глупые они и неинтересные!
— Что-нибудь вроде: «В городе нашем много огней, в городе нашем много друзей, но почему-то я вечно одна, тихо скучая, сижу у окна»?
— До пятнадцати лет именно такая дребедень на ум и приходила.
— А в пятнадцать лет пережила жестокое разочарование в жизни? Предательство подруги, или тот мальчик, о котором ты плакала по ночам, дал тебе повод для горьких мыслей типа: «А я-то думала, а он-то оказался»?
— Пей кофе и не лезь в душу!
— А я и не лезу! И так понятно.
— Что тебе понятно?! И зачем ты мне об этом говоришь? Чтобы я разрыдалась у тебя, такого понимающего на груди?! Размечтался!
— Нет, сестренка, это ты размечталась! – Максим берет Галю за руку. — Ведь хотела бы повстречать человека, понимающего тебя без слов и готового простить тебе недостатки и слабости, которых у тебя не может не быть?
— Не твое дело!
— Брат…
— Что?
— Добавь к сказанному «брат».
Галя отвечает не сразу:
— Ты прав. С братом я бы могла о многом поговорить.
— Например?
Галя не отвечает. Да и Максим долго мучительно думает перед тем, как сказать:
— Ты девчонка красивая, из молодых, да ранних… А случалось ли тебе ловить на себе взгляд, который я бы назвал словами Франсуа Вийона: «От жажды умираю над ручьем»?
— Кажется, я понимаю…
Максим пристально смотрит в ее глаза и тут же опускает голову.
— Кстати, что мой знакомый не герой твоего романа, пожалуй, и к лучшему…
— А вот теперь не понимаю!
— Поймешь со временем. Ну, спасибо за кофе. Больше я тебя не задерживаю. Иди, готовься к свиданию!
— К свиданию?!?
— Мы же собирались вечером лягушек слушать!
— Мы?! Собирались?!
— Есть возражения?
— Ты так стремителен, что я не успеваю придумать хотя бы одну причину для отказа!
— Стоит ли напрягать фантазию? Соглашайся – и всё.
— Только учти: через кладбище идти придется! Мертвых не боишься?
Дождавшись, когда Галя войдет в подъезд, Максим шепчет: «Привета с того света…» — и с клокочущим сдавленным стоном скрючивается на скамейке.
4.
Полдень. Школьный кабинет физики в состоянии только что начавшегося ремонта. Александр Васильевич, мужчина сорока с лишним лет и с внешностью типичного бодигарда-рэкетира из фильмов 90-ых, но в таджикской тюбетейке и потрепанном халате, напевая: «Выглянув в окрестностях Кабула, ночь метнулась вспышками огня; не сломило нас, и не согнуло – мы ведь, люди, крепче, чем броня», — красит парту.
Из лаборантской выглядывает Татьяна, девчонка-шестиклассница:
— Александр Васильевич, я пробирки разобрала, что еще сделать?
Александр Васильевич, выпрямившись, любуется результатом своего труда.
— Ну, такую филигранную работу, как окраска школьного имущества, я тебе, Татьяна, позволить не могу. Как говорил один известный литературный персонаж, не каждому мальчику доверят красить забор. Тем более – девочке… Ты пока, девочка, цветочки полей!
Татьяна скрывается в лаборантской, через минуту выходит с лейкой и начинает поливать цветы на подоконниках. Александр Васильевич принимается за следующую парту: «Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарева пожарищ, крики мусульман, грохот автомата, взрывы за рекой,- вспомним, товарищ, вспомним дорогой!»
В дверях появляется Максим.
— Извините, не подскажете, как найти Валентину Александровну?
Александр Васильевич, не оборачиваясь и не отрываясь от процесса:
— Я за нее! А вы входите, молодой человек,- через порог не разговаривают.
Максим входит. Александр Васильевич на секунду поднимает голову, окидывает Максима изучающим взглядом и протягивает ему малярную кисть.
— А это зачем? – Максим несколько обескуражен, но кисть берет.
— Не догадываешься? – Александр Васильевич берет другую кисточку из набора лежащих на учительском столе. — Аккуратно опускаешь кисточку в краску, стряхиваешь лишнее. Потом делаешь сначала так, потом в обратную сторону… — показывает, как именно. — Получается красиво и – главное – быстро!
Максим, пожав плечами, приступает к работе.
— Вообще-то я здесь по другому поводу.
Александр Васильевич невозмутимо красит парту с другой стороны.
— Мы с Танечкой не тупые, догадались. Вам нужна Валентина Александровна. К сожалению, Валентина Александровна вышла на пенсию, поэтому по всем вопросам смело обращайтесь ко мне.
— А вы, кстати, кто? – усмехнувшись, спрашивает Максим.
— Я?! – Александр Васильевич выпрямляется и по-наполеоновски складывает руки на груди. — Я, ёлы-палы, учитель физики!!! Что, не похож?
Татьяна украдкой выглядывает из-за оконной шторы и, едва сдерживая смех, прислушивается разговору с большим интересом.
— Если честно, то не очень.
Александр Васильевич трагически заламывает руки.
— Я так и знал! — с доверительной интонацией: — На самом деле, учителем я уже лет пятнадцать не работал…
— Интересно, и как вас угораздило снова начать?
— У вас под рубашкой, юноша, точно такой же тельник, какой был у меня когда-то. Поэтому я, пожалуй, расскажу вам эту трагическую, но поучительную историю… Я ведь, братишка, чуть не угодил в олигархи!
— Во как!
— Ну да! В «олигархи» — конечно, громко сказано. Хотя грех жаловаться: был бизнес – и неплохой, кстати. Были Канары с Мальдивами, были бутерброды с икрой толстым слоем… Домик построил двухэтажный — с подземным гаражом, девятью комнатами, летней верандой, кухней и сауной – все чин-чинарём, как и положено у богатеньких буратин…
— И после этого – в учителя?!
— Вот именно! Понимаешь – а ты, братишка, должен понимать! – буквально месяц назад сижу я посреди своего оазиса в мягком дорогом халате, озираюсь на все вокруг себя благолепие и думаю: а на фига мне оно надо? — Александр Васильевич достает из кармана халата портсигар, открывает и, щелкнув крышкой, убирает обратно. — Тем, кто под смертью не ходил, объяснять бесполезно. Ну, бабки, тряпки-шмотки… Жена – из тех, которые дорвались, а отношение к жизни менять не захотели… Детей нет. Два костюма сразу на себя не напялишь, хоть от Версаче они, хоть от Гуччи. Опять же кризис среднего возраста: половина жизни прожита и от вопроса: «А дальше что?» – мороз по коже. Перед ребятами, с которыми служил, стыдно. Особенно, перед теми, кто ни о чем уже не спросит и ничем не попрекнет.
— Но почему – школа?
— А я учился в Педагогическом! По распределению три года отработал – и неплохо получалось… Короче, оставил своей ненаглядной все нажитое непосильным трудом, ткнул пальцем в карту, послал запрос на ГорОНО, получил ответ – и вот я здесь.
— Ага! Раздали деньги неимущим и в рубище отправились в народ сеять разумное доброе вечное? И пары миллиончиков на черный день не заначили? – язвит Максим.
— Не без этого, конечно, но несколько меньше названной вами суммы, юноша.
— Да не в упрек сказано! Деньги освобождают от многих проблем.
— Но таки в ваших словах присутствует нездоровый скепсис и неприкрытая ирония, молодой человек! Напрасно, батенька, напрасно!
— Хорошо, допустим, будете физику преподавать, дело хорошее… Разве что большинству нынешних деток до физики вашей – параллельно, а кому она нужна, и без вашего участия прекрасно бы обошелся! В отличие от бизнеса, который лишь от самого человека зависит.
— Ну и что?
— Как это ну и что?
— Думаешь, спорить буду? Ты, братишка, во всем прав. Только что это меняет? Лично для меня, если, вспоминая последние двадцать лет своей быстротекущей жизни, я впадаю в состояние устойчивой депрессии? У нас, между прочим, есть одна черта общая – мне очень хорошо знакомо и понятно выражение в твоих глазах!
Максим пожимает плечами.
— Да какое там выражение…
— А такое! – Александр Васильевич пристально смотрит в лицо Максиму. — Не для себя живем, братишка! Для себя жить – неинтересно. Тем более, когда за чужой счет живешь! Живешь потому, что за тебя кто-то умер!
Максим опускает голову. Говорить ему мучительно трудно:
— Внизу, в вестибюле, портрет висит…
— Валентины Александровны сын. Она поэтому и на пенсию ушла. Могла еще работать – какие ее годы! Но власти местные решили школу его именем назвать…
— «Школа имени Сергея Березкина»… Звучит неплохо.
— Наверное. Если бы этим все и не заканчивалось. А так задним числом получается, ради этого пацан в землю лег?! Чтобы его именем… — Александр Васильевич не договаривает и в сильнейшем волнении расхаживает по кабинету.
— Одно с другим не связано.
— А это ты его матери объясни! Матери, потерявшей единственного сына! На глазах у которой кто-то на его имени спекулирует, рейтинг повышая! Пафос особых затрат не требует: дешево и сердито! А кто-нибудь сообразит помочь Валентине Александровне ремонт квартиры сделать? Кто-нибудь за хлебом в магазин или за лекарствами в аптеку вместо Сереги сбегает? Выступать со скорбным лицом на трибуне перед электоратом гораздо легче, знаете ли… — Александр Васильевич хлопает себя по карманам халата. — Жаль бросил, а то закурил бы…
— А ты чем лучше?– Максим не замечает, как переходит на «ты».
— Ничем. Пока бизнесом рулил, помогал, кому мог. Коляски для инвалидов, пару операций бывшим афганцам проплатил. А сейчас подумай, каково, пацанам, за Родину пострадавшим, от богатенького буратины подачку получать?
— Причем здесь Родина? Там, как говорится, «и что назначено кому, пусть каждый совершит». Неплохие стихи, между прочим!
— Хорошие стихи. Но стихи, даже очень хорошие, с одной стороны. А с другой – суровая проза жизни… Я в 84-ом демобилизовался, а дружок мой должен был на год позже. При мне его в цинковом гробу хоронили. Мать – а он у нее один был, как и у Валентины Александровны, без отца воспитывался, — в одночасье поседела. Получила награды, послушала проникновенные речи на похоронах с пятикратным залпом из десяти стволов. Через две недели, едва оклемавшись, — на работу. Еще через две недели пришла за получкой, да нечаянно, в табеле расписываясь, спросила: почему у нее зарплата – а она на чистом окладе работала – меньше, чем обычно. И от бухгалтерши услышала: она с такого-то числа бездетная женщина и, согласно КЗоТу, с нее вычли налог за бездетность.
Татьяна за шторой, охнув, закрывает лицо руками.
Максим кусает губы и вдруг резко поднимает голову и говорит с вызовом:
— И что это меняет?
— Вот именно! – отвечает Александр Васильевич тем же насмешливым тоном, что и в начале разговора. — Будь мужиком на земле, а там как фишка ляжет! Бывают случаи, когда вопросы – на потом. И будет что спросить и должен будет кто-то ответить. Но потом. Иначе может получиться, что спрашивать-отвечать будет некому. А коли так, нам, мужикам, ничего другого и не остается. Отчасти поэтому я и в школу вернулся – есть мне, что нынешним мальчикам сказать…
— А можно полюбопытствовать, что именно?
— Извольте! — Александр Васильевич присаживается за еще не окрашенную парту. — Тривиальная школьная ситуация… Есть среди учеников такие, которым с первого класса по одиннадцатый учителя долдонят про две гласные «о» в слове «корова», а они как писали «карова», так и пишут. Никаких слов не понимают, словно бы они не люди, а гуманоиды… И вот, допустим, попадает такой гуманоид в армию…
— Не «допустим», а в натуре попадает,- улыбается Максим. — И уже завтра!
-…и не куда-нибудь, а в «горячую точку». И отдает ему отец-командир конкретный приказ. Следишь за мыслью, братишка? Конкретный приказ, типа: «Ползешь по-пластунски вдоль канавки до той воронки. Сидишь там тихо и слушаешь, откуда подлый враг из снайперки лупит. Когда мы снайпера огнем отвлечём, вскидываешься и бьешь в направлении подлого врага из подствольника, падаешь на дно, прикидываешься ветошью, а ночью мы тебя вытащим!» Скажи, сколько у гуманоида шансов остаться в живых?
— Маловато…
— Ни одного, если не сообразит приказ тютелька в тютельку выполнить! А мне почему-то другая картинка представляется. Он поползет, но не на брюхе, а от неудобства на карачки встанет. И, соответственно, получит пулю в пятую точку. Допустим, не получит, но из воронки поглядеть, где подлый враг прячется, высунется. Или посмотреть: попал, не попал из гранатомета. Или, на дне воронки валяясь, покурить захочет… В общем, слишком нежно у нынешних пацанов детство и юность проходят, оттого и малое количество слов они с первого раза понимают. Оно бы и ладно, если бы кто войны отменил. А на войне, ты знаешь, чаще убивают тех, кого в свое время, жалеючи, недостаточно за дело били…
— Короче, я понял: будь ваша воля, вы бы систему физических наказаний в школе узаконили. Ошибся в ответе ученик – подзатыльник! Дисциплину нарушил – пенделя ему!
— Ошибаешься! Разве что в крайнем случае…
— А кто будет решать, какой случай крайний? Вы?
— Знаешь, вопли «А судьи кто?» очень положительно вопиющего характеризуют. На словах он истинным демократом и человеколюбцем выглядит. На мой же взгляд, истинная человечность проявляется в праве принимать решения и отвечать за их последствия. Ты, братишка, не думай: я никому пенделей раздавать не собираюсь – я лучше кому надо эту историю расскажу. А уж кто не поймет… — Александр Васильевич пожимает плечами, замечает Татьяну и, уперев руки в бока, грозно смотрит на нее.
«Замеченная» Татьяна выскакивает из-за шторы.
— Александр Васильевич, что еще делать?
— Я и забыл, что ты здесь, — Александр Васильевич делает зверское лицо. — Подслушивала?! Теперь придется тебя зарэзатт!
— Не получится – я кричать буду!
— Да? Тогда придется на тебе жениться. Ты, Татьяна, вырастешь — замуж за меня пойдешь?
— Ну, вы вааще, Александр Васильевич!
— Ладно, подрасти сначала, а пока сбегай в канцелярию, спроси адрес Валентины Александровны. Потом братишку проводишь, дом покажешь. Лады?
— Хорошо, Александр Васильевич! – Татьяна убегает, но в дверях на мгновение оборачивается. — А замуж я за вас пошла бы! Лет через семь, если не передумаете!
— Разбили девочке сердце, – подначивает учителя Максим.
— Чему быть, того не миновать. Мужчина я пусть в летах, но видный. Импозантный даже!
— А главное, феноменально скромный!
— А то! — говорит Александр Васильевич и переходит на серьезный тон. – Хватит в остроумии состязаться. Я, кажется, догадываюсь, зачем тебе Валентина Александровна понадобилась.
Максим молчит, низко опустив голову.
— Я на твоем месте, братишка, водкой бы запасся. После разговора с матерью об этом у тебя сердце в горле комком встанет – одними слезами обратно не продавишь.
— Знаю.
Вбегает Татьяна и — скороговоркой:
— Улица Тополиная, дом восемь, квартира шестнадцатая…
Александр Васильевич встает.
— Проводи гостя, Татьяна, и на сегодня твоя работа закончена. Завтра не опаздывай!
Обменявшись понимающими взглядами, Александр Васильевич и Максим пожимают друг другу руки.
5.
— Вот это и есть Тополиная улица. Восьмой дом на той стороне за универсамом, видите?
Максим и Татьяна стоят на перекрестке.
— Вижу, — глухо отвечает Максим. – Спасибо, Татьяна, дальше я сам.
— До свиданья! – вежливо прощается Татьяна, но остается на месте и ждет, пока он перейдет неширокую мостовую и повернет налево вдоль витрины универсама.
Максим медленно идет по улице, соответствующей своему названию, хотя тополей на ней не больше, чем кленов. Каждый шаг дается ему с трудом, он не замечает ничего и никого вокруг, не видит он и женщину, вышедшую из дверей магазина.
— Максим?
Максим резко останавливается и медленно поворачивается.
— Здравствуйте, Валентина Александровна! Давайте я вам вещи донести помогу, — говорит он после секундной паузы и забирает из рук женщины два универсамовских пакета.
— Я тебя сразу узнала. Хотя на Сережкиной фотографии вы совсем еще мальчишки… — голос Валентины Александровны звучит так спокойно, что Максим кусает губы, чтобы не закричать, когда они сворачивают во двор двухэтажного дома.
6.
Шесть часов вечера. Обычный городской двор. За деревянным столиком, за которым обычно пенсионеры играют в домино, сейчас заставленным бутылками и банками из-под пива, расположились Кыча, его приятель Лобаныч, Зойка и Галя. Лобаныч играет и поет:
— «Через две! Через две зимы-ыы, через две, через две весны-ыы…»
— Издеваешься? — возмущается Кыча.
— Не бзди, Арканя, прорвемся!
— Легко тебе, Лобаныч, языком ботать! Не тебя завтра забирают…
— Фигушки! Я не лох, чтобы в армии служить! – Лобаныч дурашливо хватается за сердце. — Их бин больной!
— Выходит, я лох?! – глаза у Кычи не по-хорошему сужаются.
— Да ты чё, чувак, обиделся? Просто не повезло…
— Конечно, не повезло. Не моя тетка в легочном диспансере главврачом работает, да и мать моя – в депо путевым обходчиком, а не секретаршей в Отделе кадров…
— Причем здесь моя мать?!
— А ты чё, чувак, обиделся? – передразнивает Кыча, берет начатую бутылку водки, которую Галя выхватывает из его рук.
— Хватит пить, Аркашка!
— Положено – вот и пью! Отдай!
— Хорошо, – Галя отдает бутылку Кыче. — Но предупреждаю: завтра меня не увидишь!
Кыча, вздохнув, отодвигает бутылку на край стола.
— В армии, говорят, старики оборзели совсем, — говорит Зойка с умным видом.
— Смотря где. В элитных частях или в Чечне, к примеру, дедовщины почти нет, — проявляет эрудицию Лобаныч.
— Спасибо! Утешил, называется!
— А что ты о плохом сразу думаешь, Арканя? Может, в Президентский полк попадешь! В Кремле будешь служить, Москву увидишь!
— Ага, щас! Таких, как я, если не на Кавказ, то в такую дыру, где по нужде с калашом ходят — от медведей отстреливаться!
Зойка хохочет… и обрывает смех, заметив, с каким выражением все смотрят на нее.
— Кстати, анекдот в тему! — Лобаныч наливает в пластиковый стаканчик водки, смачно выпивает. — Прислали на дальнюю точку салабона. Как водится, месяца три он по полной программе летал, – и ничего, не жаловался. А через три месяца дедушки, посовещавшись, вызвали парня и объяснили, что салабон он правильный, проверку выдержал и больше напрягать его они не будут. Обрадовался парень: «Правда?! – говорит. — Ну и я вам тогда в чайник ссять не буду!»
Зойка хохочет. Остальные ждут, когда она перестанет.
— Тебе, Сашка, самому не противно? — с досадой спрашивает у Лобаныча Галя.
— А чё я такого сказал?!
— Даже не замечаешь… Хотя, кто как мычит, тот так и телится. По рычанию узнаёшь льва, по блеянию – барана…
— Это я баран? – возмущается Лобаныч.
Кыча властно кладет приятелю на плечо руку:
— Ша! Галька права, Лобаныч! У тебя иногда из пасти такая дрянь лезет!
Лобаныч обиженно отодвигается. Зойка садится к нему поближе и берет под локоть.
— А чё ты, Галька, на людей кидаешься? Естественное не безобразно!
— Так говорят, когда оправдываются!
— Куда уж нам до московской образованности! – Зойка надувает губы.
— Причем здесь образованность? Просто противно!
— Надо же! Какие мы чувствительные! Ты, подруга, давно такой умной стала?
— Да успокойтесь вы! Еще вашей ссоры на последнем празднике моей молодой погибающей жизни не хватало! – говорит Кыча. — Лучше спой, Лобаныч!
Лобаныч пожимает плечами, поудобнее перехватывает гитару и поет неожиданно чистым и проникновенным голосом:
Ах, как завтра уже спозаранку
Дядя, мама, двоюродный брат,
Обливаясь слезой под тальянку,
Поведут меня в военкомат.
Выходит Максим – напряженный, сумрачный. Заметив его, Кыча жестом предлагает сесть рядом. Максим садится, Кыча вопросительно смотрит ему в глаза, взяв в правую руку бутылку. Максим хмуро кивает. Кыча наливает водки в пластиковый стаканчик. Максим, помедлив несколько секунд, залпом выпивает.
А принцесса моя ненаглядная
Провожать меня не придет,
Пару писем, затем, что так надо бы,
Может быть, за два года пришлет.
— Слова перепиши и аккорды, — говорит Лобанычу Кыча. – Буду по вечерам дедушек в казарме ублажать, пробивая их на ностальгию и скупую мужскую слезу.
— А я всех слов не знаю. Там еще два куплета.
— Надо у моего двоюродного брательника спросить, — говорит Зойка, вызывая у Кычи скептическую ухмылку.
— У Вовки? Он-то откуда может знать? Или типа мент, так всеведущ?
— Песню эту один пацан из Вовкиной школы сочинил. Который еще в ансамбле клуба Железнодорожников на клавишах играл. Жаль, фамилию не помню.
— Да неужели?! – вмешивается в разговор Галя.
Максим резко разворачивается.
— Странное дело, но внутренний голос мне подсказывает: про «ненаглядную принцессу» как-то с тобой связано. И ведь что характерно, интонация у него, моего внутреннего голоса то есть, такая, блин, уверенная…
— Я этому вашему клавишнику клавиши на голову одену! – кипятится Кыча.
— Не получится.
— Ну да, уже не успею, — вспомнив про завтрашний день, мрачнеет Кыча.
— Да нет, дорогой, ты уже опоздал, — говорит Максим полушепотом, глядя в сторону.
— Слушай, Арканя, а это чё за чувак? – спрашивает Лобаныч, кивая на Максима.
Вместо ответа Кыча навскидку дает Лобанычу щелобана.
— За что?!
— За базаром следи! Я его уважаю! – Кыча, будто бы забывшись, наливает себе водки на донышко стаканчика, торопливо выпивает и вытирает рукавом губы. – Вот ты скажи, приезжий, на что я лучшие годы должен потратить? Три пары кирзачей истоптать? Перед стариками унижаться?
— Отвечать обязательно, или вопрос риторический?
— Нет, ты скажи! Но без лозунгов, типа «Армия делает мальчика мужчиной»…
— Если мальчика — мужчиной, то причем здесь армия?! – смеется Зойка, и все снова привычно ждут, когда она перестанет. — А чё, я опять не то ляпнула?
Максим задумчиво:
— Если без лозунгов, то… Ну, во-первых, в армии ты сможешь изменить свою походку.
— Не понял?
— Объясняю… Ты сейчас как ходишь? Вразвалочку, нижняя губа оттопырена, взгляд исподлобья… Типа самый крутой! По горскому аулу так не ходи. И если на твоем пути женщина, первым сделай шаг в сторону, если старик, то остановись, вперед себя пропусти. В дом к горцам входя, у порога шапку сними и не забудь сказать: «Мир вашему дому». Через порог не переступай, пока в ответ не услышишь: «И тебе мир…»
— Скажешь тоже, горский аул! Будто других вариантов нет!
— А зачем тебе другие варианты, Аркадий? Ты же всегда хотел быть героем. Учителям в школе хамил, задирался с каждым встречным-поперечным. Таким в армии самое место. От них пользы больше, чем от клавишников, единственных сыновей у матери–учительницы. Многое они могли в жизни полезного сделать, а такие, как ты, герои, ничего не теряют, кроме отсидок в КПЗ!
Кыча угрюмо сопит. Лобаныч изображает презрение. Зойка щелкает семечки. Галя пристально смотрит на Максима.
— Откуда столько злости, брат?
— Извини, сорвался. Тяжелый был разговор с женщиной одной… А у тебя случалось, чтобы в разговоре с человеком, ты не могла смотреть ему в глаза?
— У каждого свои проблемы, — вместо Гали отвечает Зойка
— Ты это к чему, Зоенька?
— Не придирайся, Галька, — смеется Лобаныч. — На Зойку обижаться — грех!
— Мне послышалось, или здесь кто-то на что-то намекает?
— Ты, Зойка, и правда, молчи! – вмешивается Кыча. — Не мешай с умным человеком разговаривать.
— Ну вот, опять намекают! – Зойка, надув губы, отворачивается.
Кыча снова обращается к Максиму:
— Ладно, насчет меня вопрос решенный: мне в натуре страшно и офигеть, как не хочется, но никуда я не денусь. А Лобаныч служить не пойдет! Из нас двоих он умнее оказался. И ты мне по фамилии хоть одного депутатского, министерского, мэрского или еще какого пэрского сыночка назови, кто по призыву в Северо-Кавказском округе служил? Вот и выходит, я в натуре конкретный лох!
— Ну и что? – абсолютно спокойным тоном отвечает Максим.
— Как что?! Обидно…
— Переживешь! Я, между прочим, такой же лох.
— Прикалываешься, да?
— Отнюдь!
Лобаныч отдает гитару Зойке и, прищурившись, смотрит на Максима в упор.
— То есть, если я тебя при девчонках лохом назову, не обидишься?
Максим улыбается.
— На тебя?! У меня грехов хватает – зачем мне лишние!
Галя:
— Между прочим, ты Аркадию не ответил.
— А вряд ли ему мой ответ понравится! Да, косарей развелось – видимо-невидимо. Да, если бы у политиков и олигархов сыновья служили, куда Родина пошлет, то, может, западло кому-то было деньги на крови пацанов зарабатывать! И ни я, ни он, ни Лобаныч, ни вы с Зойкой не виноваты, что наша жизнь не такая, какой нам хочется! Но был у меня друг, который говорил: «Я отвечаю за себя, но так, чтобы с меня сын или дочь когда-нибудь не спросили: «Папа, почему наш мир – дерьмо?»
Ни у кого не находится слов, чтобы ответить Максиму, и слышно, как вдалеке перекликаются соловьи да из каких-то окон Леонид Агутин вместе с «Отпетыми мошенниками» поют про то, как «…скорый поезд мчится прямо на границу…»
Лобаныч тянется к бутылке, наливает себе и Максиму, потому что Кыча жестом показывает: ему не надо.
— Будто сговорились все, – ворчит Кыча, когда Агутин с «Мошенниками» допевают последний куплет.
— Да прикольный шлягер, Арканя! — заступается за Агутина и «Мошенников» Лобаныч. — Мне брательник рассказывал, в ночных клубах щас самая модная тема!
— Понял, приезжий? Интересно, а вот, допустим, я на дембель через Москву поеду, меня в ночной клуб пустят? Где «Блестящие» и прочие «Ириски» с «Барбарисками» выступают?
— Рылом не вышел! – ехидничает Лобаныч
— Вот именно! В армии служить, воевать-умирать сгодился, а для красивой жизни… Так какого служить спрашивается? Во имя чего и за что?
— Тебе бы не в армию идти, а на следователя учиться! Любишь вопросы задавать. Я тебе что, гуру? Пророк Моисей?
— Не увиливай, приезжий! Ты там был – вот и скажи мне, чего ты там узнал, чего я не знаю и что знать мне надо?
— Хорошо, отвечу… За что, говоришь? За Россию!
Кыча срывается на крик:
— За Россию?! Где моя мать, двадцать пять лет в депо вкалывая, ничего, кроме инвалидности, не заработала?! Где по жизни мне будто кто пальцем круг очертил, за меня решив, что дешевого пива и паленой водки на мой век хватит, а прочее по-любому не светит?! За Россию, да? Которую элитой себя называющие по полной программе имеют?!
— А ты никак на их место захотел?
— Да уж не отказался бы!
— А смысл?
— По крайней мере, не кашу бы перловую, а лобстеров с омарами хавал!
— Это одно и то же, — поправляет Кычу Галя. – И не «лобстеров» надо говорить, а «лобстеры».
— Плевать! Главное, человеком бы себя чувствовал! А не электоратом!
— А ты, Арканя, оказывается, умнее, чем кажешься! – удивляется Максим. — Мне сегодня один учитель физики хороший вопрос подсказал: «А дальше что?» Ответ на него все на место ставит. Те, которые — лобстеры с омарами, как растения живут. Повезло на хорошей почве укорениться — цветут и пахнут. А вытянут все соки – куда им деваться?
— По крайней мере, не в армию!
— И не надо! Им там, в отличие от тебя, делать нечего. Им-то какое дело до России?
— Как какое? Они ее просто имеют!
— Правильно сказал. Не любят, а имеют. Поэтому они – не Россия! Так, накипь. Лет через пятнадцать-двадцать о них и не вспомнит никто. Разве что персонажами из анекдотов в памяти останутся. Россия — это мы с тобой, Арканя. Родину не выбирают, другой у нас нет и, в отличие от некоторых, не будет. И поэтому мы за нее в ответе: кроме нас, ее любить некому, а без нас она погибнет. И она такая, какая есть, потому что мы такие! Какие есть.
— Слушай, приезжий, а классно ты развел всех! – насмешливо растягивая слова, после короткой паузы говорит Лобаныч. – Арканя — и тот ухи развесил! Тебе от военкомата за агитацию не приплачивают? Кандидатом в депутаты не выдвигался? Странно… Впрочем, не все потеряно!
— Молодой ты еще, Лобаныч, — Максим улыбается. – Я таким же был. Два года назад попробовал бы кто при мне пафосные речи толкать!
— И что за два года изменилось? В телевизоре на говорунов насмотрелся и решил: языком ботать – не колеса на вагонной сцепке мазать, а башляют за это не в пример больше?
— Нет. Просто я смерть видел, — говорит Максим так, что после его слов снова воцаряется оглушительная тишина.
— Я где-то читала: жизнь имеет значение, когда твердо знаешь, за что ты готов умереть, — как всегда не к месту умничает Зойка, и Лобаныч после ее слов просто взрывается:
— Ну, все! С меня хватит! Скоро лабаз закроется. Пойдем, Арканя, еще пузырь возьмем – когда еще доведется…
— Пойдем. Только пить больше не буду – мне еще завтра… Галя, ты с нами? – обращаясь с вопросом к Гале, Кыча смотрит на Максима.
— Извини, Арканя, но Галя обещала мне показать, как лягушки поют, а у меня через четыре часа поезд.
— А-а, ладно, – подчеркнуто безмятежно говорит Кыча. — Ты же ей вроде как брат… Пока, Галина, завтра увидимся!
Кыча, Зойка и Лобаныч уходят.
— Ну, пойдем, братец, сам напросился! – Галя встает.
Максим встает следом, и они уходят в противоположном направлении.
7.
Небольшая, но «обжитая» специфическим контингентом площадь пред магазином, который лучшего определения, чем упомянутый Лобанычем «лабаз», не заслуживает. На скорую руку сбитый павильончик с огороженным перилами из железной арматуры крыльцом в шесть ступенек. Невдалеке – несколько скамеек, занятых вышеупомянутым контингентом…
Издалека по разбитому асфальту проезжей части к магазину идут Кыча, Лобаныч и Зойка, переговариваются, бурно жестикулируя. О чем они говорят, не слышно, так как, бултыхаясь в колдобинах, их обгоняет сильно бэушная иномарка, из которой через хорошую, как ни странно, акустику доносится песня Бориса Дрягилева — про то, как «…пятый месяц солдат месит грязь по Чечне, он — мальчишка совсем, если честно сказать, только это ж не повод, чтоб не убивать…» Машина останавливается рядом с лабазом, дверца со стороны водителя распахивается, из не тянется сигаретный дымок, и песня звучит громче.
На крылечке Лобаныч собирает со всех деньги и уходит в магазин. Кыча облокачивается спиной о перила, Зойка рядом грызет семечки.
— О чем задумался, Арканя? – спрашивает Зойка.
Аркадий не отвечает. По его взгляду на фоне несущихся из салона машины слов понятно, что он навсегда прощается с привычной для него жизнью, потому что через два года он вернется уже совершенно другим человеком. Если вернется.
8.
Одиннадцатый час вечера. Солнце на закате и через несколько минут полностью уйдет за горизонт. По дороге вдоль окраины городского кладбища идут Максим и Галя в венке из озерных кувшинок. Останавливаются рядом с недавно огороженной могилой только потому, что Максим словно бы случайно именно перед этой оградой присаживается на лавочку поправить сбившуюся липучку на кроссовках. Фотография и имя на надгробии прикрыты еще не обтрепавшимся венком и свежими букетами цветов.
— В прошлом году здесь была просто дорога, а кладбище начиналось шагах в тридцати. Никогда не задумывалась, сколько людей умирает в нашем маленьком городке, — задумчиво говорит Галя.
— Пребывание на кладбище настраивает на философский лад и провоцирует состояние легкой светлой грусти.
— К чему ты это сказал?
Максим пожимает плечами.
— Чтобы поддержать разговор, уместный между юношей и девушкой во время романтической прогулки. Пытаюсь быть остроумным и продемонстрировать некую образованность…
— Надо же!
— Между прочим, я много стихов наизусть помню!
— Ты меня специально сюда привел – стихи читать?
— Я тебя привел?!
— Конечно. Ты так уверенно ломанулся с тропинки на дорогу. Твоя осведомленность в топографии города для приезжего весьма подозрительна, знаете ли…
— А ваша проницательность, мадемуазель, делает вам честь! Ничего подозрительного – просто я здесь уже был. Утром.
— Зачем? Начинать знакомство с городом с кладбища — это, брат, мания!
— Не более чем твоя идея приглашать кавалеров послушать пение лягушек.
Галя присаживается рядом.
— Теперь ты решил поразить меня проницательностью? Продолжай!
— Это у тебя типа мухобойки – от назойливых ухажеров отмахиваться.
— Любопытная версия!
— Догадываюсь, как они тебя достали. Наверняка еще в начальной школе записками забрасывали, в которых с орфографическими ошибками в любви изъяснялись и предлагали дружить…
— Один деятель – правда, не в начальной школе, а в девятом классе — в конце пространного объяснения на предмет, как он по мне скучает, написал: «Крепко целую и жму твою руку». Представляешь?
— Круто! Поэтому ты и придумала про лягушек? Стоит очередному соискателю предложить до болота прогуляться – и с ним все сразу понятно… Скажи, Галя, а хоть кто-нибудь — кроме меня, естественно! – испытание выдержал?
— Был один, который, наверно, выдержал бы. Однажды в клубе Железнодорожников меня на танец пригласил. Пока музыка играла, слова не сказал, только из ладони в ладонь передал маленький клочок бумаги. Я потом развернула, а там написано: «Я сам не знаю, что со мною и в чем цена несбыточной мечты, но, рядом находясь с тобою, я счастлив тем, что есть на свете ты…»
— Клавишник! – шепчет Максим с горечью.
— Что?
— Был у меня был друг, тоже стихи писал. «В перелив хрустальный слился звон бокальный, а моя любимая – в платье подвенчальном. Во хмельном угаре мимо бродят пары; с женихом невеста – словно не на месте. Что же ты наделала, ласточка печальная? Отчего надела ты платье подвенчальное? У меня отчаянье — на разрыв аорты: почему не рядом я, почему – напротив?»
— Подвенечное надо говорить, а не подвенчальное! Вот и для стихов пришло время. Наша прогулка действительно начинает напоминать романтическое свидание.
— Размечталась!
— А ты, братец, колись: чего твой приятель еще насочинял? Ты ведь не случайно про него вспомнил!
— Вообще-то у этих стихов предыстория есть…
— Ой, как интересненько!
Максим с трудом сдерживает волнение.
— Тогда слушай… Жил-был на свете мальчик, у матери-учительницы единственный сын. Любил книжки читать, в музыкальную школу ходил и с пятнадцати лет на клавишных в местном ДК играл. Короче, жил себе, поживал, пока не затащили его приятели на школьный вечер, где старшеклассники инсценировали отрывки из литературных произведений. И до полного ошеломления поразила его одна девчонка – она Дуню Раскольникову в сцене последнего объяснения со Свидригайловым изображала. Мальчик потом ночами долго заснуть не мог, а когда просыпался, подушка была от слез мокрая…
— Я тогда в свой адрес комплимент услышала: «Девушка, вы просто красивая, а еще и талантливая!» — говорит Галя после короткой паузы.
— В том-то и беда — не умел мальчик комплиментов говорить. Дыхание перебивало.
— Ерунда какая-то!
— Ничего не поделаешь, – разводит руками Максим. — Бывает у романтических мальчиков бзик. Все им кажется, не достойны они тех, кого искренне любят и всегда найдутся более достойные… Но не будем отвлекаться. Всю зиму мальчик за девочкой ходил, стараясь ей на глаза не попадаться. Узнал адрес, под ее окнами часами стоял, буквами ее имени десятки листов исписал, а потом рвал их на мелкие кусочки, чтобы никто не увидел и ни о чем не догадался. Один лишь раз не выдержал, на одной из дискотек в клубе Железнодорожников, от клавиш своих оторвался и на первом попавшемся клочке бумаги, набросал торопливо: «Звук музыки печальной нас в танце свел на миг, а в сердце – бой отчаянный, беззвучный в горле крик… Не знаю, что со мною, слеза туманит глаз: я лишь на миг с тобою. В последний раз…» И – еще строк десять-двенадцать в таком же духе. Первые ему лишними показались, часть листочка он оторвал, сложил оставшееся вчетверо, пригласил девушку на танец и, набравшись смелости, записку в ее руке оставил…
— Приду домой, все перерою: жалко, если выбросила! Но ведь это два года назад было, а куда потом мальчик твой потерялся?
— В армию забрали.
— Понятненько. Там он подружился с тобой, таким чутким и понимающим, и однажды разоткровенничался по поводу своей великой безнадежной любви. И ты приехал повидаться с армейским товарищем и убедить меня, какой он есть расчудесный и замечательный! Но знаешь, брат… Посредничество в таких делах неуместно, а использование помощи друга к твоему мальчику меня отнюдь не располагает!
— Наверное, ты права, — говорит Максим и смотрит на часы. — Оп-паньки! У меня же через полтора часа поезд!
Максим пытается встать, но Галя останавливает его:
— Кстати, еще одна странность не в пользу твоего приятеля. Ты так скоро уезжаешь…
— Повидались – и достаточно.
— Не договариваешь, братец! Повидаться – это сказать: «Привет!» — спросить: «Как дела?» — ответить: «Да все нормально!» – пожать руки и разойтись!
— Меня, вообще-то, дома заждались…
— Оправдания всегда найдутся!
— Какие оправдания? Зачем?
— Не кипятись! – Галя, улыбаясь, берет Максима за руку. — Я очень рада, Макс, что у меня теперь есть брат. Честное слово! Ты в следующий раз приезжай, потому что я буду рада тебя видеть. Может, и у тебя больше времени будет, чтобы меня с другом познакомить…
Максим украдкой от Гали сжимает кулаки – так, что белеют костяшки пальцев.
-Ты извини меня, Галя, — глухим, не своим голосом говорит он.
— За что? – удивляется Галя.
— Я плохо о тебе думал, — Максим решительно встает. — Пойдем, а то я точно опоздаю!
— Вот ты какой, оказывается! Хорошо, познакомить нас не получилось, а что мешает тебе хотя бы имя своего приятеля назвать?
Максим отворачивается, чтобы Галя не видела его искаженного лица, и кладет руку на калитку в оградке.
— Ты действительно этого хочешь?
Гале происходящее все еще кажется забавным:
— Хватит интриговать, братец!
Максим, сгорбившись, молчит, и вдруг Галя догадывается, что будет дальше…
— Серега. Сергей Владимирович Березкин, — говорит Максим, открывает калитку, отодвигает венок на надгробии и отходит в сторону, чтобы Галя не видела его слез. — Знакомься…
Галя закрывает лицо руками, сдерживая крик. Крупным планом – мальчишеское лицо в голубом берете ВДВ на эмалевом медальоне кладбищенской пирамидки.
Звучит песня Вадима Егорова «Облака». На экране кадры армейской хроники и фотографии мальчишек, погибших в Афганистане и Чечне.
Над землей бушуют травы,
Облака плывут, как павы,
А одно – ну то, что справа —
Это я, это я, это я.
И мне не надо славы…
Ничего уже не надо
Нам и тем, плывущим рядом,
Нам бы жить – и вся награда,
Нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить…
А мы плывем все рядом…
А дымок над отчей крышей
Все бледней, бледней и выше…
— Мама! Мама! – и ты услышишь
Голос мой, голос мой, голос мой…
Все дальше он и тише…
Эта боль не утихает…
Где же ты, вода живая?
Ах, зачем война бывает,
Ах, зачем, ах зачем, ах, зачем?
Зачем нас убивают?
Мимо слез, улыбок мимо
Облака плывут над миром.
Войско их не поредело;
Облака, облака, облака…
И нету им предела…
А дымок над отчей крышей
Все бледней, бледней и выше…
-Мама! Мама! – и ты услышишь
Голос мой, голос мой, голос мой…
Все дальше он и тише…*
* ©Вадим Егоров. «Облака»