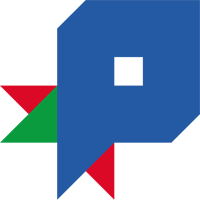…Был июль, и была Ялта. И был номер (в сущности, простенький, но двухуровневый, с собственной кухней, от которой наверх, в просторные барские апартаменты вела узенькая стильная лестница) с балконом прямо над Массандровским пляжем. Нет, над морем. Над морем!
Он много ездил по свету, много где не просто бывал, а жил, купался в четырех океанах. Но в Ялте — вот так, надолго (две недели!), и с такой роскошью — оказался впервые. Хотелось наслаждаться жизнью и ни в чем себе не отказывать. И так, собственно, все и шло, вольготно и весело, в удовольствие.
И было море… Очень теплое, живое. Он не привык просто купаться и лежать на пляже — это его скорее раздражало, чем радовало. Скучно! Но его присутствие — необходимо, оно само по себе меняет, преображает город. Без него городок, что притулился у берега, пустеет, словно из него вынули душу. Что бы было тут, если бы не было этого беспрестанно волнующегося, изменчивого бескрайнего пространства из волн и тихой воды? Одни только глушь, захолустье, усталость.
И дело вовсе не в том, совсем не в том, что курорт, что это солнце, здоровье и радость, теплые волны и счастье. В городе, откуда он приехал, тоже было море, пусть другое — тяжелое, северное, холодное, но и там только то, что оно есть, наполняло его улицы и площади каким-то особенным светом. Светом свободы и вольного ветра. А он, этот самый ветер, — жесткий, нещадный, что дул там отовсюду, пронизывал насквозь, дарил ощущение простора и запах далеких, неведомых стран.
Но здесь, в Крыму, и ветер был иным. Не таким размашистым и боевитым, а, напротив, мягким, подобно женской руке, легким и ласковым. Было хорошо вечером сидеть на балконе и слушать его дыханье, вглядываясь в почти неразличимую в южной ночи морскую дальнюю даль. Иногда он, в обычный жизни — совершенно некурящий человек — позволял себе сигару. И — вино, здешнее, крымское. Но это — редко, когда бывало особенно хорошо. Плотный, пряный сигарный дым приносил с собой миражи другой жизни, аромат иных миров, и тех, что он видел, и тех, о которых только мечтал, и тех, о которых еще никто не знал.
И вино, и сигару он позволял себе не в одиночестве, а тогда, когда рядом был давний хороший друг, который отдыхал тут же, неподалеку, по той же Причальной улице, в одном-двух домах поодаль. Друг всеми корнями родом из их северного города, как это часто там бывало, сын моряка, и сам в прошлом — моряк. Он-то и позвал его сюда, нашел ему эту чудо-квартиру над морем. Он знал Ялту как свои пять пальцев — с детства, любил ее. И, когда говорил, посмеиваясь: «Ты тут не просто номер снял, а с персональным путеводителем…», имел на то основания. Так, в общем, и было. Город, благодаря другу, почти ежедневно открывал ему свои тайны. Ялта! И не только малая. Но и Большая — все здешнее побережье, надежно скрытое полукружьем гор от внешнего мира.
Что он знал о ней прежде? Ну да, конференция, Великая тройка. Но это — даже не Ялта, а Ливадия, дворцы, где прежде даже бывать приходилось, но так — налетом-проездом. Еще, а, может быть, в первую очередь, — писатель, классический лик которого — усталый внимательный доктор средних лет в пенсне — был известен каждому советскому старшекласснику. Сколь известен, столь и нелюбим. Очень скучным казался он тогда, надуманным. Оно и понятно: все его главные темы и персонажи, сама философия, и даже профессия, были так далеки от щенячьих радостей юности, что и из пушки не достанешь.
Понимание… Оно пришло с годами, когда незаметно сам раз за разом оказываешься в описанной им за сто лет до этого ситуации: сидят, предположим, люди за вечерним чаем, мирно беседуют, и почти ничего не происходит, но вдруг оказывается, что соседи по столу почти ненавидят друг друга, может, не до смерти, но, тем не менее, метнуть нож (тайный или явный) в ближнего своего никогда не откажутся. Такая вот война. Тихая, но страсти порой космические, смертельные. И, собственно, это и есть наша жизнь. Но понимаешь это не сразу. Вырасти нужно.
— Все эти его дяди вани и дамы с собачками — совсем не для школы, конечно… — заметил он, когда они шли по главной здешней набережной мимо памятника самому известному и самому ялтинскому персонажу классика.
Кажется, все эти дни в Ялте этот писатель, с большой буквы Писатель, незримо сопутствовал ему и его другу. Они и говорили о нем, и по пошлой туристской привычке даже попытались найти футболку с ним на главной местном рынке. Тщетно! Одни вежливые люди, ласточкины гнезда и крымские мосты.
— Что ж такое-то?! — удивлялся он. — Это ж, по сути, главный бренд города, основное его лицо. Причем не только местным известное, но — всему миру.
Они попробовали добиться правды у торгашей, выпытать хоть какую-то версию такого небрежения, но те только плечами пожимали: не знаем, дескать, ведать не ведаем.
— Может, тупо не покупают? — спросил он друга.
— Нет, скорее, производители другим местом думают… — обескураженно буркнул тот.
— Это точно! — согласился он. И, осененный внезапной светлой мыслью, воскликнул: — Знаешь, а мы же еще на его даче не были!
— Так пошли! — сходу отозвался друг и, еще раз подчеркивая, что здесь для него тайн нет, всезнающе заметил: — Белая дача! Это рядом.
И они пошли. От набережной вдоль какого-то неважного, насмерть пересохшего водоема вверх и вверх по горе, по улочкам и тропкам. По дороге несколько раз переспрашивали, шли не торопясь, но добрались довольно быстро. Конечно, дача уже была не дача, а музей. А потому сначала — павильон, где им продали билеты и предложили экскурсию. Отказались.
— Ненавижу экскурсоводов, — никак не поясняя такого отношения, заметил он, когда они вышли и направились, к железной (кованой?) калитке, что вела к дому и саду. Друг молча согласился.
Уютный дом, ухоженный сад — некоторые деревья здесь еще помнили руки хозяина, но большинство выросло уже без него. Поразил звонок на двери — нужно было крутить ручку, чтобы извлечь звук.
— Вещь! — воскликнул его товарищ и радостно заулыбался: — Я такие еще помню!
«А я вот нет…» — почему-то с грустью подумал он.
Они вошли внутрь, и очутились в хвосте пришедшей сюда чуть раньше экскурсии, в ворохе фраз, что обрушивала на посетителей молоденькая очкастенькая девушка в модной синей юбке чуть ниже колена и белой идеально чистой блузке («Аккуратистка… — без удовольствия отметил он про себя и продолжил привычный киноцитатный ряд: — Отличница. Возможно, спортсменка. Но не красавица, нет. Увы…»). Экскурсанты завороженно смотрели ей в рот, напуганные нескончаемым потоком неизвестного, что вдруг стало для них явным. По сторонам почти не оглядывались, в вещи и документы не всматривались, пока на то не будет высочайшая воля всемилостивейшего и высокоумного водителя их по дому. Знала барышня, и правда, много.
Но ему она только мешала. Его не оставляло ощущение, что дом — живой. Что хозяин куда-то вышел, пройдет несколько минут и — вернется, обязательно вернется. Надо только дождаться. Но и в его отсутствие здесь продолжало жить его дыхание — в самих стенах, в покосившейся старой деревянной оконной раме с диковинными шпингалетами из прошлого века, в столе и стульях, в этюде Левитана, что примостился на стене. «Да, они дружили…» — подумал он.
И почти тут же услышал, как экскурсовод рассказывает своим питомцам, что маленький пейзаж этот художник сделал по просьбе писателя, на заказ.
«Как все-таки странно… — подумал он. — Нет уже обоих на белом свете. А картины и книги живы. И желание, движение души одного, осуществленное другим, по сию поры с нами, словно оба живы… И даже фашисты этому не помешали…»
И снова его мысли словно услышал очкастенький, вельми ученый экскурсовод в модной юбке. Оказалось, при оккупантах здесь жил какой-то немецкий майор, который не просто читал писателя, но едва ли не фанатом его являлся. При том, что жива была еще сестра хозяина дома. Так что, было, кому постоять за Белую дачу. Майор едва ли не запретную зону там устроил, что-то вроде «не входить — собственность германской армии». Вот посторонние и не входили.
— Я что-то сейчас подумал, — заговорил он, когда они уже вышли наружу, в сад, — что немцы ведь Ялту, по сути дела, не тронули: какая была до войны, такая и осталась. И это за три года оккупации!
— Так для себя, поди, суки, берегли… — едко заметил в ответ друг.
— Не исключено… — ответил он, а потом передернуло его, словно затвор в винтаре, заговорил яростно, с ненавистью: — Не могу себе представить, как они здесь по улицам ходили, сытые, холеные, гладкие.
— Но ведь ходили. А потом, видишь, и там люди были. Как этот майор, или тот винодел, о котором нам, помнишь, на заводе массандровском рассказывали…
Он помнил, конечно, помнил. Накануне они были в подвалах «Массандры». Особый мир, культура, доступная лишь избранным, подвальная цивилизация, основа, фундамент которой — вино. Вино как жанр искусства.
И вот этот мир нелюди, перед тем, как бежать, порешили уничтожить. Специально для этого вызвали из рейха спеца-винодела. Тот все подготовил, но взрывать не стал. Не нелюдь, человек оказался.
— Да были, конечно, были. Но тоже… Майор этот. «Собственность германской армии» — это о чем? О доме писателя, который не всему миру принадлежит, но — вечности?
Друг попробовал возразить:
— Позволь, ты все-таки мыслишь из нашего века, из нового тысячелетия даже, а это другая система координат. А тогда… Тогда, может, так и надо было.
Он кивнул, но все же до конца уступать не хотел:
— Может, оно и так. Но все же, помнишь, у Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны…» И дальше, в концовке, под которой подпишусь…
— «Речь не о том, но все же, все же…» — ожидаемо закончил друг.
Он рассмеялся, хоть и знал заранее, что объяснять-договаривать здесь не надо. Но все равно в который уже раз этому изумился:
— Ну, ты все за меня сказал.
— Это не я, — безжалостно уточнил тот в ответ. — Это Твардовский, — и вкрадчиво, отчетливо, почти по-учительски, продолжил, привычно блеснув знанием не только имен и фамилий, но и отчеств: -Александр Трифонович.
Они вышли в сад, посаженный хозяином дачи, который к этому, главному дому последних своих лет, относился, как к одной из самых важных книг (он и дачей-то его не называл, рассчитывал жить здесь, жить долго). И к саду — тоже. И планировал, и сажал — сам. Хоть и не инженер совсем. Даже оригинальный трубопровод для всего этого торжества природы придумал. В Крыму, где вода (пресная, не морская) большая привереда, то она есть, то ее нет, это вопрос жизни. Всегда. А уж в начале прошлого века — и подавно.
— Трубопровод! Прям таки «сработанный еще рабами Рима…» Система подачи дождевой воды для сада собственной конструкции… — с восхищением оглядывая стебли выросшего здесь бамбука, говорил друг, поражаясь вниманию и упорству писателя в его садово-ягодных причудах. — Ботаник однако был! Я бы так не смог.
И они тут же, не сговариваясь, вспомнили общего товарища, которого оставили в родном северном городе, не без иронии сойдясь на том, что он бы смог. «Да, он бы смог!» «Он бы смог…» И вспомнили, что у того как раз день рождения, что чуть об этом не забыли, а вот — гений места помог. Своим садом-огородом помог. И, конечно, бросились звонить. Долго не получалось, сигнал не проходил — антенки омертвелой телефонной трубки были ниже плинтуса, почти у земли, но потом он все-таки услышал далекий знакомый голос.
— Привет, а мы вот там-то… — сказал он, а потому уже поздравил с днюхой и отрапортовал привычный набор дежурных фраз. — Да, у него в гостях. У него тут сад совершенно обалденный. Тебе бы понравилось. Он, видимо, ботаник был. Такой же, как ты.
— Ага, такой… — голос из черной ожившей трубки звучал хоть и радостно, но с сомнением. А дальше их друг — дикая смесь романтика и циника, хоть и радостно ему было — не столько от поздравлений, а от разговора вообще, от того, что вспомнили, не преминул попенять отдыхающим: — Сами вы — ботаники! Курортники хреновы.
Он замолчал на секунду, а потом продолжил воодушевленно, обращаясь к нему:
— Ты про Казакова там не забудь. Перечитайте на досуге. Вслух. Над морем.
— Про какого Казакова? — не сразу понял он.
— Казаков — один, — весомо прозвучало в трубке. — Первый и единственный. «Проклятый север» перечитайте.
— Хорошо! — наконец сообразив, что к чему, крикнул он в трубку, и связь прервалась. Глянув на монитор мобильного, он с досадой заметил: — Сигнала нет что-то. Совсем.
А его товарищ, с мягкой грустью улыбаясь каким-то светлым воспоминаниям, сообщил:
— Знаешь, а я ведь когда последний раз здесь, на Белой даче, был, для такого разговора нужно было на телефонную станцию ломиться, межгород заказывать, в очереди стоять… Смешно.
— А футболок, какие искали, заметь, и в музее не было… — без сожаления вспомнил он, когда они шли вниз, возвращались в город, к морю.
…Они поехали в Гурзуф, только перед этим поднялись на канатке над городом, посмотреть на него с высоты. «Та самая, знаменитая, — любовно приговаривал друг по пути, — на которой Друбич с Банананом катались, а Гребень пел… Ну, в «Ассе», помнишь?».
Он не любил ни Соловьева, ни «Ассу», ни Друбич, особенно, отдельной, лютой нелюбовью, не любил Гребня. Но, как ни крути, это была часть его юности, времени, когда всё начиналось, — и для него, и для новой эпохи, в которую безжалостно окунула его и его сверстников наша великая и тревожная Родина. А потому, было и дорого, и свято. К тому же, согласитесь, всегда интересно увидеть воочию то, что всю жизнь оставалось для тебя всего лишь кинообразом, сколком невзрачным с целлулоидной (в ту пору еще именно такой, без всякой цифры) пленки «Свема». А здесь — реальные стальные нити проводов, живые, ползущие по ним вверх и вниз кабинки с такими же живыми людьми внутри. Только город внизу — не на закате, а днем, но это даже и хорошо — лучше видно. И песня — та самая, про «город золотой», тоже звучит. Нет, не из чуда иноземной техники, но — в голове, как и в фильме, за кадром. Вот вроде не хочешь, а звучит! Все-таки столько было юности, восторга от того, что все впереди, что всё только начинается, — там, тогда, в тех кадрах. «Моей юности… — подумал он. — И это звучит и сейчас, когда, к сожалению, знаешь, как всё быстро закончится…»
— А вот в какой кабинке они гоняли, я не помню… — продолжал экскурсоводничать его спутник. — То ли в 23, то ли в 25 — что-то такое.
— Включи машинку свою да посмотри! — показал он другу на мобильный.
— Вот еще! — отмахнулся тот. — Да какая разница?!
Легкий кораблик на белых крыльях — то ли катер, то ли яхта, но с моторчиком, отважно вспарывая высокую, неспокойную волну, нес их в Гурзуф. Дождика не было — яркое солнце свободно светило на морем и город, но вот радуга вдруг возникла, как водится, сама собой, из ничего, высветилась праздничным полукружием в небе над вольной водой.
— Радуга, радуга! — засуетились на кораблике граждане отдыхающие — такие же, как они с другом, курортники. Иные, особенно расторопные, даже принялись фотографировать. Но тут донеслось:
— Дельфины, дельфины!
И внимание сходу ушло на другой борт, где, словно маленькие веселые кораблики, резали волну упругие спины с плавниками. Дельфины! Их было три или четыре — стая. Как обмолвился один из пассажиров: «Прямо банда какая-то…» Они, кажется, плыли будто по команде — дружно: то шли ровно, без лишних движений и изменений курса, то уходили — один за другим — в глубь, словно прячась от досужих глаз. Резвились радостно, но в стороне, от яхты держались на расстоянии, а вскоре и вовсе исчезли из виду.
В дали угрюмым медведем уже маячил Аю-Даг…
Гурзуф не впечатлил — унылый, скучный городишко. Разве что поманил уютным песчаным пляжем, строгими очертаньями пионерских корпусов чуть в стороне, легендарный «Артек», золотая сказка нашего советского детства. «Мечта школьных лет, недостижимая для меня, раздолбая. Хоть сейчас бы попасть. Эх, жаль, экскурсии туда не водят…» — с досадой говорил ему друг. «Совсем под запретом? Прям, нельзя-нельзя?» — спросил он. «Ну, ты-то может, еще попадешь, — лукаво усмехнулся друг, — с делегацией какой-нибудь, гостем высоким. Если, конечно, классиком станешь…»
Кораблик их, отмеряя мили говорливым движком, уже взял обратный курс, когда он вновь вслух вспомнил Писателя, а именно то, что у того и в Гурзуфе дача имелась. Купил специально для любимой актрисы театра, который сейчас носит его имя.
— Однако! — удивился его спутник. — Да зачем ему две дачи-то?
— Так не женаты ведь еще были, насколько я понимаю… — ответил он. — А потом, деньги у него уже в ту пору были, мог себе позволить. Зачем афишировать? Особенно когда ты популярный писатель, а она — известная актриса.
— Да уж… — почти воровски присвистнул его спутник. — В школе нам про это не рассказывали. Слушай, кстати, как ты думаешь, а с ним посидеть-выпить можно было?
— Как и с ним? — ернически переспросил он. — Итак пьем каждый день. Хватит!
— Прекрати! — не унимался друг. — Я серьезно. Но вот как? Сесть, тяпнуть по рюмашке, толком поговорить.
— Не знаю, не было шанса попробовать, — попробовал пошутить он, но тут же вполне серьезно добавил: — Я бы, положим, не стал.
— Это почему?
— Не хочу разочаровываться… Но пить-то он пил, конечно. В письме к Суворину это замечательно, примерно так: «а поедемте-ка на пароходике в Ялту! Будем сидеть на палубе, пить вино. А по вечерам — дамы…»
— Да-а-а, — задумчиво протянул друг. — Человек был.
— И, судя по всеми, не такой скучный и правильный, каким нам его показывали в школе, — заметил он и добавил: — Послушай, дорогой, а не тяпнуть ли нам по рюмашке?
— Заметьте, не я это предложил! — таким был ответ. — Хватит пить, хватит пить, а сам…
Их кораблик – аккуратно, но по-домашнему уверенно, уже швартовался у ялтинского морвокзала. День продолжался.
…Сели, как водится, у него, в двухэтажных хоромах, наверху, на балконе, под которым не было уже людей на пляже и рядом, было только море — черное, бескрайнее. Бутылка первоклассной «Мадеры» из массандровских подвалов, брынза и виноград, провидчески купленные еще утром на главном местном продуктовом рынке.
— Вот не люблю я крепленые вина, — говорил он уже с налитой рюмкой наперевес. — Организм не позволяет. Одно исключение — мадера. Потому как это чудо!
— Однозначно, — прозвучало в ответ. — Ну, давай за…
Они выпили за далекого своего друга, которого поздравляли с Белой дачи, из писательского сада, возделанного с такой тщательностью и заботой, на какие, пожалуй, способны только доктора, да и те исключительно в добром расположении духа. Пожалуй, примерно в таком, в каком они были сейчас.
— А про кого он там говорил-то? — твердой рукой тут же наливая по второй, спросил его неизменный товарищ и собутыльник. — Ты еще не сразу понял. Про какого-то писателя тоже…
— Ах, да, конечно! — вспомнил он. — Про Казакова наш ботаник говорил, про «Проклятый север» — один из лучших казаковских рассказов. Он про Ялту… Про двух друзей, наших с тобой землячков-рыбачков, которые приехали сюда в апреле. Приехали и заскучали. Давненько я его не перечитывал.
— Так, может, читнем? Хотя бы избранные места…
— А давай!
И началась проза — из тех, выше которой, может быть, и нет на белом свете…
“Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно, людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.
А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.
Отчего нам было скучно, мы не знали.
И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:
— Слушай, а в доме Чехова ты был?
— Не был. А что?
Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.
— Давай, старик, поедем! — предложил мой друг.— Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.
Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, бренчала и громыхала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный…»
— И почему что-то восточное? — озадачился он. — И почему они ехали, а не шли? Зачем такси?
— Потому, что в Ялту надо ездить с детства… — серьезно сказал его уже порядком захмелевший друг, и продолжил еще более серьезно: — В общем, потому, что у них меня не было…
— А у меня ты есть… — не задумываясь, заметил он. — И это хорошо.
Они обнялись, выпили еще. Но читать не бросили.
«- Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг.- Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска… В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастная была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого…
— Выпьем вина? — вяло предложил я.
— Иди, пасись! — сказал мой друг.- Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!
Потом мы стали ругать коньяк и водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить…»
— Очень похоже все это на нас! — вдруг осенило его, когда закончил читать. — Разве что они в апреле, не в сезон были, когда здесь ни погоды, ни людей… И уж больно они его жалеют. Не такой уж и несчастливый он был. И жена не такая уж и равнодушная.
Он задумался на секунду, а потом глубокомысленно продолжил — указательный палец взмыл ввысь:
— Это потому, что мы знаем больше.
— Это потому, что у них интернета не было, — смеясь, подхватил приятель. — А так — прям мы с тобой. Кто бы мне рассказал, так я бы не поверил. И дача, и Гурзуф. И пьем мы не меньше.
— Ага. Только не в ресторане. Как думаешь, а где они пили? Хотя бы примерно. Ты же помнишь Ялту тех лет…
Друг задумался, что-то, ему одному ведомое, прикинул в уме, и авторитетно сообщил:
— Судя по некоторым приметам, скорее всего, в «Бригантине», — это рядом с набережной, днем — кафе, вечером — ресторан. На ее месте сейчас высотный дом. Еще в «Крыму» или в «Сочи», но это кабаки при гостиницах, туда бы их вряд ли пустили.
— Ну, они ведь как раз в гостинице жили, — возвращая их обоих к тексту, заметил он. — Впрочем, некоторые мои собратья по перу считают, что Казаков это не о наших рыбаках писал, а о себе и своем друге Евтушенко…
— Ну, если с Евтушенко, то, думаю, пустили бы. С Евтушенко в семидесятые всюду бы пустили! — засмеялся друг и добавил, намекая на известное им обоим недавнее прошлое: — Да, и в наше время — ну, ты-то лучше меня это знаешь.
— Нет, пусть все-таки наши рыбаки будут… — зачем-то вглядываясь в марку почти допитой ими «Мадеры», откликнулся он. — Как-то лучше. Да и правдивей. Иначе — причем «проклятый север» вообще? Да и мы с тобой — причем?
Он помолчал, а потом продолжил:
— А не пора нам домой? Как думаешь?
— Да куда? У нас, наверно, снег еще не растаял! — как-то разом протрезвев, издевательски заметил друг.
— Да, почему? Растаял, растаял!.. — не понял он шутки. И даже уточнил: — Еще в мае.
Море — большое и теплое, совсем черное, если бы не отражавшийся в нем диск полной луны, продолжало почти бесшумно накатывать на берег. Рядом, в двух шагах, еще не спал, еще боролся с уютной южной тьмой и сном небольшой, но по здешним меркам почти столичный город. А ему мерещилось, рвалось в окно взвинченным ветром, другое море. И другой город. Там, где вот так на балконе не посидишь. Даже летом. И ему хотелось, дико хотелось туда вернуться. Даже несмотря на порой действительно никогда не тающий, вечный снег. И ветер, такой же вечный ветер.
Хотелось домой.