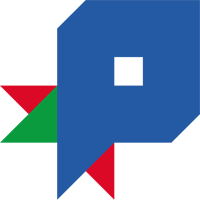* * *
Испытанный тысячекратно,
я послан на все четыре –
теперь-то мне всё понятно
о людях, Боге и мире.
Больная душа наружу
просится то и дело.
Кляну вселенскую стужу
и делаю своё дело,
простое дело молиться.
А в небе, схожем с порезом,
Горе кричит, как птица
над полным сумерек лесом.
* * *
Ангел, – скажу тебе, – ну, пока,
вот мой последний шаг
в небо, где белые облака
и никаких бумаг.
Где прикасается Всеблагой
к тайнам любой души.
Где не ударят в лицо ногой,
не отберут гроши.
Где не обманут, не продадут,
не назовут жидом.
Ну, а пока мы в досаде тут
под проливным дождём –
воздухом Сферы (пока жилой!)
дышим – Коперник прав –
пахнущим грубо сырой землёй,
нежно – цветеньем трав.
* * *
Быть может, финская земля
ещё нуждается во мне?
Рисует стужа вензеля,
как зверь, ворочаясь в окне.
Там кровью харкает закат,
трубя над гибельной тайгой.
Слепой служитель языка,
я в курсе, кто ты, Всеблагой.
Но всё же, каясь и греша,
шепчу у краешка стола:
«Конечно, счастья ни шиша.
Зато как музыка светла».
* * *
Автор, когда бы узнать, зачем
сердце толкает рёбра!
Истина хмурая, как чечен,
смотрит в глаза недобро.
Ты, состоящий из красных жил,
хрупких костей и пота,
ей, неподкупной, всегда служи –
это твоя работа.
Может, награда – сосновый гроб
или дешёвый ужин,
хлеб нарезной, молоко, укроп,
вишенок пара дюжин.
* * *
Всё – тайга и столетний сон.
Поросла щетиной щека.
Хорошо на крыльце – споём
про замёрзшего ямщика.
У соседки – спрошу сольцы,
у соседа – стрельну топор.
Говорят, на Москве дельцы,
говорят, что на воре вор.
У соседки есть молоко,
у соседа есть борода.
Города от нас – далеко,
далеко от нас города.
* * *
Грохнуло грубо где-то
в тучах над гулким бором.
Синюю вспышку света
принял за Вечность ворон.
Чёрен он, как преступник,
свой понимает возраст.
Хлеб я надел на прутик,
мелкий подбросил хворост.
Пляшет на жарких углях
гибкая саламандра.
Небо в далёких гулах
облачного театра.
Ели притихли, словно
сонные великаны.
Кажется: скажешь слово –
кто-то откроет краны.
Хлынет на землю влага,
хвойный промоет воздух.
Ровно четыре шага
до тишины на звёздах,
до тишины за краем
всей внеземной мороки.
Дай совладать с раздраем,
Господи светлоокий!
* * *
В сосновой роще ландыши,
как маленькие вкладыши
в большую книгу лета,
и солнце, как монета
из клада византийского.
А я стою и тискаю
на языке три слова:
«Любви первооснова –
страдание». Страдание?
Сосновой рощи здание
костёл напоминает,
и я, как на Синае,
предвидя долю лучшую,
стою и Бога слушаю.
* * *
Бреду в болото просекой заглохшей –
хрустит валежник влажный под ногами.
Психея-дочь, измученная ношей,
как небо, затянулась облаками.
А здесь осинник рыжий и волнушки,
здесь царь грибов, похожий на тарелку,
и, рассыпаясь, мокрые гнилушки
пугают зазевавшуюся белку.
О, если бы в узор необычайный
листа, творимый вышним ювелиром,
и я проник, и все постиг бы тайны,
и вдруг увидел свет над божьим миром!
* * *
Красный лист опускается тихо-тихо
на лицо мне, и мученик-муравей,
в бороде заплутавший, находит выход.
– Ну, куда же ты, маленький, лезешь? Эй!..
Подо мной земляная течёт прохлада.
За вершины цепляются облака –
забежавшее в небо овечье стадо –
и осеннее солнце печёт пока.
Хорошо, что Господь отмеряет щедро
это золото терпкое, как вино,
и высокие травы дыханье ветра
чуть колышет как медленное руно.
* * *
Всё прах, и тлен, и ветер звёздный.
А люди суетны и дики.
Иду. За лесом тепловозный
гудок, а здесь пока брусники
на кочке пламень. Но кому-то
почти не требуется эта
всегда чудесная минута
рожденья алого рассвета.
Их поезд прочь увозит – в город,
где свет искусственный, фонарный,
где, может быть, забьётся скоро
сосуд непрочный, коронарный…
Любите, милые, друг друга!
У нас одна всегда программа:
рожденье, бег в пределах круга,
а там – кладбищенская яма.
Но пусть подсказывают сосны,
шумя у низенькой оградки:
«Был выход! Был! Простой и грозный –
крепки, как смерть, его повадки».
* * *
Нам ли, ангел, бояться безжалостной смерти?
Похоронят, где сосны в урочище мглистом.
На твои искривлённые пальцы надеть ли
дорогое кольцо с голубым аметистом?
Я не знаю, какой тебе сделать подарок –
ты, почти как небесная сущность, бесплотна.
Трудно жизнь догорает, как свечки огарок
перед ликом Спасителя, бесповоротно.
Но за все твои муки, представь, дорогая,
ты отведаешь яблонь плоды налитые
там, где, молнии с неба на нас низвергая,
жив Творец, и глаза у него золотые.
* * *
Я – лист, я – птица, я – звезда.
Меня забросили сюда,
чтоб я светил, и пел, и плакал.
Даны мне кошка и собака,
и криворукая жена.
Когда над лесом тишина,
я говорю с водой и камнем.
Ещё в святые не пора мне,
но надо многое успеть:
допеть, доплакать, догореть
и раствориться в тёмной чаще.
Небытие мне мёда слаще –
душа, я знаю, никогда
не умирает, и звезда,
и лист, и птица, и за тучей
прохладный ветерок летучий.
* * *
Всё вернётся: улыбка младенца – в слезу,
и бутылка вина – в молодую лозу,
птица – в землю и бабочка – в кокон,
станет облако горным потоком.
Вот и мы превращаемся в пепел и пыль,
возвращаемся в землю, в зелёный ковыль.
Как ветра нас, беспечных, качали!
Было так оно в самом начале.
Было так до того, как пришли мы сюда,
до того, как «водой» называлась вода,
камень – «камнем» и «другом» – собака.
Даже то, что нам светит из мрака,
мы ещё не назвали «звезда»!