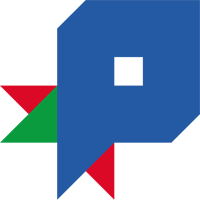Начнем с древности. Словене, кривичи, чудь и весь — именно эти народы, как гласит «Повесть временных лет», призвали на русские земли варягов: править богатыми городами и погостами.
Словене и кривичи — предки современных русских и белорусов. Чудью русские летописцы называли финно-угорские племена (некоторые из них дали начало современным финнам и карелам). Ну а весь — это нынешние вепсы, уже тогда известные как отдельное племя.
- Летописец Нестор не разделял славян и финно-угров: по его мнению, эти народы между собой равны, поскольку имеют общего предка – библейского Иафета, сына Ноя. Источник: days.pravoslavie.ru
- Призвание варягов Гостомыслом (Радзивилловская летопись). Источник: radzivilovskaya-letopis.ru
- Николай Рерих. «Заморские гости»
«На Белом озере сидит весь», сообщает нам «Повесть временных лет». Предки современных вепсов занимали территорию Межозёрья: между Нево, Онего и Белым озером (Ладожское, Онежское и Белое озеро в сегодняшней Вологодской области).
Историки предполагают, что вепсы обособились от других прибалтийско-финских народов примерно во второй половине первого тысячелетия и расселились на юго-восточном побережье Ладоги.
Наиболее ранние упоминания о вепсах принадлежат готскому историку Иордану (он называл их именем «вас»). Русские летописи в XI веке называют народ «весью», но в поземельных описях населения (русские писцовые книги), которые появились в XIV веке, вепсы уже чудь.
Александр Пашков, доктор исторических наук:
— В конце первого тысячелетия происходят серьезные этнические процессы. Славяне успешно продвигаются на север, а север весь заселен финно-угорскими народами. Продвижение вполне мирное: земли много, да и численностью славяне превосходили, даже при желании им было бы трудно дать отпор.
Народы смешиваются. Вепсы остаются на южной границе финно-угорского мира, остаются на столетия — охотятся и рыбачат, с соседями-карелами живут мирно.
Народ
Вепсы — народ более монолитный, чем карелы. Как жили традиционно между озерами, так и живут до сих пор. В Ленинградской области, в Вологодской и в Карелии. В Карелии — на юго-западном побережье Онежского озера (Шелтозеро, Вехручей, Каскесручей, Рыбрека).
Начало XX века для вепсов было многообещающим: в рамках советской национальной политики в стране создавались национальные сельские советы, в Видле (Винницах) в Ленинградской области и в Шутъярве (Шелтозере) в Карелии их объединили в национальные округа. Появились школы с преподаванием на вепсском языке.
Создавался письменный вепсский, разработали систему орфографии, аналогичную системе латинского алфавита, созданной для карелов Твери. Напечатали 30 книг на вепсском языке, в основном учебники для начальных школ.
К 1934 году все школы для вепсов были снабжены учебниками на родном языке. 60 студентов вепсской национальности начали учебу в педагогическом училище Лодейного Поля. Но продолжалось это недолго.

Вепсская семья. Фото: Национальный архив Республики Карелия
Уже в 1937 году (в рамках борьбы с национализмом) политику пересмотрели: меньшинства было решено ассимилировать, причем ускоренными методами. Школы закрыли, учебники сожгли, заработала машина репрессий. На вепсском теперь говорили только дома — боялись.
В 1937-м сельские советы вепсов лишили национального статуса. Люди перебирались в город, многие деревни вымерли: инфраструктура распалась, рабочие места сократили, магазины закрыли, медицинские услуги стали недоступны. Национальные округа упразднили (в Ленинградской области — в 1939 году, в Карельской АССР — в 1956-м).
После войны жители вепсских деревень (молодежь) продолжает переезжать в город и переходит в русскую лингвистическую и культурную среду. Ассимиляция идет уже не насильственным — естественным путем. Во второй половине XX века официально вепсов уже не притесняют, но привычный страх заставляет говорить на вепсском только дома, записываться русскими в паспорте.
Согласно переписи населения, в 1979 году в СССР проживали 8,1 тысячи вепсов, только половина из них называла вепсский язык родным.
Перестройка изменила в стране многое, в том числе и отношение к своей национальности. Ее теперь не скрывают — гордятся. В 1989 году в Карелии утверждают вепсский алфавит, создается Общество вепсской культуры
По инициативе общества и с его помощью уточняется официальная статистика по вепсам, возрождается письменность, организуется преподавание вепсского языка в школах и вузах, издается учебная и художественная литература на вепсском языке, выходит (раз в месяц) газета Kodima на вепсском и русском языках.
В 1994 году образована Вепсская национальная волость в составе Республики Карелия. Просуществовала десять лет и вновь была возвращена в состав Прионежского района. Сегодня здесь три административных поселения — Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское и Рыборецкое вепсское.
- Вепсская девочка. Фото: Яков Симанов
- Праздник вепсской культуры «Древо жизни». Фото: пресс-служба Центра национальных культур Карелии
- Красный петух, символ вепсской национальной культуры. Фото: Игорь Георгиевский
- «Древо жизни» в Шелтозере. 2016. Фото: Максим Смирнов
- «Древо жизни» в Шелтозере. 2016. Фото: Максим Смирнов
- «Древо жизни» в Шелтозере. 2016. Фото: Максим Смирнов
- «Древо жизни» в Шелтозере. 2016. Фото: Максим Смирнов
Язык
Сегодня большинство вепсов говорит по-русски. Но язык в Карелии преподают — в нескольких школах и в Петрозаводском государственном университете.
Вепсский язык относится к балтийско-финляндской группе финно-угорских языков. Диалекты есть: северный, центральный и южный. Северный диалект несколько отличается от других, но все вепсы могут прекрасно понимать друг друга.

Зинаида Строгальщикова, кандидат исторических наук:
— Больших диалектных различий, как у карелов, у вепсов не сформировалось. Это связано с тем, что вепсы проживали достаточно компактно. У них есть, конечно, некоторые различия в говорах, но они незначительны. Вепсы — это практически единственный из коренных малочисленных народов, у которого есть так называемая наддиалектная письменность, то есть общая письменность для всех диалектов. И это очень хорошо, это дает возможность создать общий литературный язык.
Сегодня на кафедре прибалтийско-финской филологии Петрозаводского университета вепсский изучают 16 студентов (бакалавриат и магистратура).
Мария Кошелева, преподаватель вепсского языка в ПетрГУ:
— Я вепсянка. Папа — русский, а мама родилась в вепсской семье в деревне Другая Река на берегу Онежского озера, на территории традиционного проживания вепсов. Всё детство я провела у вепсской бабушки, слушала её разговоры с мамой, хотя и не понимала тогда языка (да и на улице, в магазинах тогда тоже многие разговаривали по-вепсски).
Начала учить родной язык в школе с первого класса. И это было очень легко — говорят, что язык «в крови» упрощает изучение. Да и с преподавателями всегда везло.
Для меня вепсский очень красивый. Есть в нем своя магия, сохранившаяся со времен активного использования в бытовой жизни. Он, помимо прочего, очень добрый, природный: вепсы часто использовали так называемые диминутивные (уменьшительно-ласкательные) суффиксы. Всё, что окружало людей — природа и все ее явления, очень высоко ценилось. И это отразилось в словах, в языке.
«Сокровища белой веси» / Vepsän man vägi
https://eb.utuoy/CMMKbWyimXY
Это первый фильм из цикла «Сокровища белой веси» (Vepsän man vägi). Всего их шесть: в прошлом году Фонд президентских грантов поддержал Общество вепсской культуры — так и появились эти истории.
Снимали в местах традиционного проживания вепсов: в основном в Карелии, но в Ленинградской и Вологодской областях тоже. Каждый фильм — на свою тему, для каждого названия выбрали по вепсской пословице.
Фильмы о вепсах, об истории народа, о языке и фольклоре. О промыслах и ремеслах, традиционной кухне. О вепсских святых, о православии в вепсском крае и святынях вепсского Прионежья.
Мария Филатова, руководитель проекта и соавтор сценария:
— Слышали про снежные пироги — луменикад? Мы нашли такую историю, о которой мало где написано и никто об этом не снимал: как вепсы пекли гороховые пироги со снегом. Нашли тех, кто помнит, как это делали, но показать уже никто не смог. И мы искали летом снег (за кадром осталось, как мы выковыривали его из холодильника), сами муку из гороха намололи, сами испекли. Так что пироги в фильме не муляжные!
За кадром осталось и то, как мы просили бабушек исполнить плач. Знаем, что причитывают, умеют. Но на камеру никто не решился: «Тяжело это, давление поднимется». А жаль. Осталось бы в истории.

Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р. Лонина. Фото: Илья Тимин
В 1960-е годы у энтузиаста-краеведа Рюрика Лонина появилась идея создания Вепсского историко-этнографического музея в селе Шелтозеро. Именно тогда начали собирать первые коллекции уникальных предметов вепсской истории, культуры и быта.
У музея тогда не было помещений для хранения фондов, не велась научная обработка экспонатов, не было их анализа и реставрации. Современный Вепсский этнографический музей открылся в Шелтозере только в 1991 году. Экспозицию разместили в двухэтажном доме с мансардой — памятнике деревянной вепсской архитектуры начала XIX века (когда-то дом принадлежал купцу Мелькину).
Работники Карельской специализированной научно-реставрационной мастерской полностью восстановили внешний облик здания и интерьер хозяйственных построек, а жилую часть дома перепланировали с учетом размещения экспозиции.
Сегодня это филиал Национального музея Республики Карелия, единственный в России, рассказывающий о материальной и духовной культуре вепсов.
- Музей расположен в традиционном вепсском доме, построенном в середине XIX века купцом Мелькиным. Фото: Илья Тимин
- Портрет Рюрика Лонина. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
- Шелтозеро, музейные окан. Фото: Илья Тимин
Общество
По переписи 2010 года в России живет около шести тысяч вепсов. Больше половины — в Карелии (около трех с половиной тысяч), остальные по большей части в Вологодской и Ленинградской областях. В 2006 году вепсы включены в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Карельское Общество вепсской культуры в этом году отмечает 30-летний юбилей. Все эти годы активисты работали не только у нас в республике, но и в соседних областях. Объединяли народ, помогали решать общие проблемы.
С сентября этого года обществом руководит Лариса Чиркова, корреспондент объединенной редакции на национальных языках Государственной телерадиовещательной компании «Карелия», автор радиопередач на вепсском языке.
Лариса Чиркова, председатель Карельской региональной общественной организации «Общество вепсской культуры»:
— Я чистокровная вепсянка, корни по материнской и отцовской линиям из села Рыбрека. Объездила практически все вепсские деревни, снимала фильмы о вепсах, готовила видеоуроки для начинающих изучать язык. Уже семь лет как руковожу разговорным клубом «Вепсские бесёды».
В общество пришла еще в 2001 году, когда поступила в университет на факультет прибалтийско-финской филологии и культуры (специальность — вепсский, финский языки и литература). Сегодня общество объединяет вепсов всех регионов, и благодаря поддержке государства у нас есть возможность сохранять вепсскую культуру. Люди должны помнить о своих корнях и гордиться ими.
- Вепсскому празднику — вепсский флаг. Фото: Илья Тимин
- Рыбрека, 2019. Фото: Илья Тимин
- Рыбрека, Каларанд. Фото: Илья Тимин
- Вепсские традиции — от старожилов. Фото: Илья Тимин
- Народный вепсский костюм — и маме, и дочке. Фото: Илья Тимин
- Каларанд-2019: ловим рыбу. Фото: Илья Тимин
- Каларанд-2019: готовим рыбу. Фото: Илья Тимин
- Новости на родном языке. Фото: Илья Тимин
Семья
— Мы вепсы. Мама ходила в школу в Рыбреке, папа — в Вехручье, — рассказывает Анна Анхимова. — А я уже родилась в Петрозаводске. Но в деревню мы ездили и по выходным, и на всё лето. Это было самое настоящее вепсское деревенское лето: с сенокосом, с вилами и граблями. Просили погоду, уходили рано утром и возвращались вечером.

Анна Анхимова, сотрудник музея «Кижи». Фото: Музей «Кижи» / Игорь Георгиевский
— В школьном классном журнале раньше была графа «национальность». И я была записана вепсом. Одноклассники до сих пор вспоминают, как я на классных часах про вепсов рассказывала. А когда выросла, стало интересно: что сегодня можно узнать о своих корнях?
В рамках проекта «Семейный архив» мы с тетей пришли в Национальный архив Карелии и подняли документы на своих родственников. Родители знали дату рождения прабабушки, Фёклы Николаевны Лебедевой — меня она видела только при рождении (а я ее видела только на фотографиях).
В метрических книгах нашли своих предков — и все наши предки так и жили в вепсских деревнях! Вехручей, Шелтозеро, Рыбрека… Пока остановились на 1860-1870-х годах.
- Анна Анхимова, первоклассница. Петрозаводск, 1990. Фото: из личного архива
- Александр Иванович Анхимов и Лидия Поликарповна Анхимова (Сидорова). Бабушка и дедушка Анны во дворе своего дома. Прионежский район, деревня Огеришто (Вехручей). 1970-1980-е годы. Фото: из личного архива
- Семья Судаковых на прогулке. Бабушка Анны — Надежда Петровна Судакова держит маму Анны Людмилу Егоровну Анхимову (Судакову). Рядом стоят родные брат и сестра мамы. Прионежский район, село Рыбрека. 1960. Фото: из личного архива
- Иван Александрович Анхимов (отец Анны) с родной сестрой Тамарой Александровной Касканен (Анхимовой). Прионежский район, деревня Вехручей. 1960-е годы. Фото: из личного архива
— В метрических книгах есть интересные описания самих деревень, — продолжает Анна. — Переписчик описывал всё, когда приходил: территорию вокруг, состояние дома, сколько народу здесь живет. Десять коров, пять овец, лошадь.
Интересно, что спустя сто и двести лет деревенские дома так и стоят на тех же местах. Потому что строили как надо. Мой дедушка по папиной линии был строителем, в деревне отвечал за строительство домов. А как строили в деревне? Знали все приметы: когда заготовить дерево, как его хранить, когда начинать ставить дом. Все секреты строительства передавались из поколения в поколение, поэтому дома и стоят до сих пор. И сейчас в вепсской деревне ты видишь линию, по которой выстроена улица.
А бабушка, Полина Поликарповна, рассказывала про деревню Качезеро, откуда она родом (деревни уже нет на карте) Она помнила, где какой дом стоял — одноэтажный, двухэтажный, помнила, кто в каком доме жил и чем люди занимались.
- Полина (Пелагея) Поликарповна Левкина (Сидорова) печет калитки — традиционное блюдо вепсов и карелов. Двоюродная, но родная бабушка Анны по линии папы. Прионежский район, Шелтозеро. 2011. Фото: из личного архива
- Семейная встреча в июле 2008 года. Встречи проходили каждый год, по традиции все собирались в доме Полины Поликарповны Левкиной. Прионежский район, Шелтозеро. Фото: из личного архива
Полина Поликарповна — двоюродная бабушка Анны, но в семье все родные. Тем более во время войны именно бабушка Полина растила в Шелтозере братьев и сестер.
— Поэтому у нас в Шелтозере — Дом, — говорит Анна. — Бабушку нашу тут все знали. Работала воспитателем в детском саду, а потом много лет председателем всех на свете общественных организаций. К ней в Шелтозеро ездили все — и передачи, и фильмы снимать. Так и называли ее местные — интернет-бабушка. В этом году ушла, к сожалению, но память осталась на всю Карелию.
У нас большая семья, и мы каждый год встречаемся. Эта вепсская семейность — она именно от бабушки Полины. В Шелтозеро, в ее большой дом, мы приезжали всей семьей каждое лето, в июле. До пятидесяти человек иногда — родственники из Ижевска, Москвы, Петрозаводска, из карельских деревень.
Мы знали, что бабушка всех ждет. Такой тон она задавала: чтобы все встречались и общались за одним столом, как это было всегда в укладе. Бесёды и калитки. Как полагается.
А это вепсский бонус: мастер-класс по сульчинам и пряженцам от Анны Анхимовой.
https://eb.utuoy/pGThuN8kIfE
— Помню, в девяностых годах, во время очередной переписи, меня не было дома, — рассказывает путешественник и фотограф Илья Тимин. — Возвращаюсь, а мама говорит: я тебя вепсом записала! Вепсов мало, и я решила, пусть их будет больше.
Конечно, я вепс. Дед по маме из Шимозера (Ленинградская лобласть), бабушка — из Каскесручья. Год назад я привозил бабушку в родную деревню, фотографировали ее около родного дома. В такой момент понимаешь, что здесь — здесь! — жили твои деды и прадеды. И это озеро кормило всю семью. Вот тропинка, вот берег, камушки. И бабушка, когда была маленькая, в юбочке здесь бегала — а сейчас она стоит, придерживаясь за твое плечо.
Могу сказать так: чем дольше (и дальше) я осознаю свою причастность к местной культуре, к вепсам, тем бережнее я отношусь к тем ресурсам, которые нас окружают. Леса, озера. Растения, рыбы, птицы, животные. Может быть, по этой причине я последние годы практически и не охочусь. Наблюдаю, изучаю, фотографирую. И меня беспокоит, что некоторых видов животных становится всё меньше в наших лесах. Я отношусь к лесу как своему дому. Я здесь живу, и что будет дальше, меня беспокоит.

Илья Тимин. Фото: из семейного архива
Вепсский народ как символ Карелии представляет Илья Тимин, фотограф:
— Вепсы — это Онежское озеро. Здесь, на южном берегу, нет шхер, бухт длинных, которые защищали бы от шторма. Это суровый берег. И деревни вепсские, которые здесь стояли, были открыты всем ветрам.
И вепсы — суровый, выдержанный народ. Когда я в Каскесручье смотрю на Онежское озеро, то представляю, как деды и прадеды (без моторов!) на веслах, на парусах выходили на рыбалку. А сколько историй, когда что-то пошло не так, лодку унесло — и две недели человек в этой лодке жил (или даже умер). И лодку прибило к противоположному берегу озера… Это суровая правда тех времен. А жене — только ждать и молиться.
Вепсы — это наш северный характер. И все, кто долго здесь живет, впитали это в себя. Приезжие отмечают, что поначалу мы держимся настороже. Но потом всё покажем, все расскажем — где рыба, где ягоды, где грибы. Ну, кроме самых лучших мест, конечно.

Каскесручей. Три сестры на берегу Онежского озера. Фото: Илья Тимин
Над проектом работали:
Мария Лукьянова, редактор проекта
Елена Фомина, журналист, автор текста
Илья Тимин, фотограф
Елена Кузнецова, консультант проекта
Идея проекта «100 символов Карелии» — всем вместе написать книгу к столетию нашей республики. В течение года на «Республике», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут 100 репортажей о 100 символах нашего края. Итогом этой работы и станет красивый подарочный альбом «100 символов Карелии». Что это будут за символы, мы с вами решаем вместе — нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте присылать ваши идеи. Делитесь тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях — эта информация войдет в материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню рождения — напишем о ней по-настоящему интересную книгу!