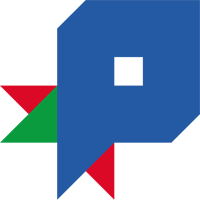Мы зашли в Республиканскую больницу. Свежий ремонт. Пирожки, конфеты. Чистый коридор, скамейки. Пациенты: кто-то в гипсе, кто-то бледный. Рядом родные — разговаривают, улыбаются.
К гематологическому отделению — по множеству переходов и лестниц. И чем дальше от входа, чем глубже в больницу — тем тяжелее. Всё самое сложное — внутри, ближе к палатам. Борьба — там.
[parallax-scroll id=»248463″]
Нас встретил Александр Абрамович Мясников, заведующий гематологическим отделением, и мы пошли в тихую процедурную:
— В гематологическом отделении 60 мест. В год оно принимает почти 2000 пациентов. Тяжелые заболевания не у всех, но некоторым необходима длительная терапия, иногда с последующей трансплантацией костного мозга.
С сентября прошлого года «Республика» ведет специальный проект «Список Иоффе». И к Александру Мясникову мы приехали фактически разбираться в терминах.
Что такое трансплантация?
Существует два вида трансплантации:
- Аутотрансплантация (донор и реципиент — одно лицо).
- Аллогенная трансплантация (донор — другой человек).
В Карелии выполняется только аутотрансплантация. У пациента берут периферические стволовые кроветворные клетки и замораживают. Потом — химиотерапия, которая полностью уничтожает его костный мозг. А после из холодильника человеку возвращают то, что у него взяли.
— Аутотрансплантация — очень сложная процедура, — объясняет Александр Абрамович, — выполняется, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, всего в нескольких центрах России. Необходима специальная аппаратура (сепараторы крови, центрифуги, холодильники), специальная палата с ламинарными потоками воздуха, дорогие медикаменты. Но этот вид трансплантации имеет меньше противопоказаний, переносится несравнимо легче аллогенной трансплантации.
Александр Мясников работает гематологом с 1977 года. Заведующим отделением стал в 1998-м. Стал как-то автоматически. По его мнению, врач растет не вертикально, а горизонтально: врачебный рост — это когда тебя знают, помнят и любят пациенты, когда незнакомые люди хотят лечиться именно у тебя. Вот это профессиональный рост, а всё остальное — воля случая. Должность заведующего совсем не мешает быть врачом.
У большинства больных удается добиться ремиссии:
— при лимфоме Ходжкина — почти 94%;
— при острых лимфобластных лейкозах у детей — 88%;
— при острых миелобластных лейкозах — примерно 50%.
Ремиссия — состояние, когда болезнь никак не проявляется себя. Но это не значит, что человек здоров. Это значит, что уничтожено определенное количество опухолевых клеток, а остальные определить невозможно. Но они есть.
Наступила ремиссия — дело за иммунной системой. Если она справляется, человек выздоравливает. Если нет — рецидив.
В Карелии в аллогенной трансплантации костного мозга нуждается примерно 10 человек в год.
По словам Александра Абрамовича, при рецидиве болезни прогноз совершенно иной: тогда, как правило, и возникает необходимость в аллогенной трансплантации: «Сейчас появилась возможность прогнозировать течение болезни. Бывает, наступает ремиссия, а врачи понимают, что вероятность рецидива — 90%.В этом случае аллогенная трансплантация необходима, не дожидаясь развития рецидива. При каких-то болезнях (например, лимфобластный лейкоз) она нужна во второй ремиссии. Иногда в третьей.
Когда нужна трансплантация?
— Пересадка костного мозга необходима редко. Лечение большинства болезней крови этого не требует. Наиболее часто она нужна при острых лейкозах, — объясняет Александр Абрамович. — Например, 80% детей с лимфобластным лейкозом выздоравливает без трансплантации. А вот при миелобластном лейкозе она требуется большинству. Правда, переносят ее не все: в России делают людям до 60 лет. Трансплантация назначается не всем. Это не панацея: она может помочь, а может не дать результат или привести к фатальным осложнениям. Но кому-то без нее действительно не вылечиться.
«Мы никогда своих пациентов не обманываем. Если у человека острый лейкоз, мы ему так и говорим. Понимают или нет — зависит от человека. Кто-то лезет в интернет, прочтет там всяких ужасов и начинает им верить. А кого-то волнует то, что у него голова болит, а не то, что у него острый лейкоз и предстоит тяжелая борьба за жизнь».
— В нашей стране есть только несколько центров, где делают аллогенную трансплантацию. Наших больных берет Петербург. Правда, если есть донор…
Где искать донора?
— Есть родственный донор, проблем вообще никаких. Не считая, конечно, того, что в нашей стране до сих пор не ясно, оплачивается, например, типирование (анализ на совместимость) или нет. Но даже оно стоит не так дорого, как поиск и активизация донора…
Поиск донора — 5000 евро. Его активация — 20 000 евро.
— Трансплантация от донора-родственника в несколько раз безопаснее, чем от не родственника. Но бывает, что и чужие люди идеально подходят. Правда, очень редко. В Америке в банках крови зарегистрировано несколько миллионов потенциальных доноров. Там такие случаи бывают. У нас — нет.
То есть деньги — не гарант здоровья: иногда они есть, а донора найти не получается. Это происходит не очень часто, если обращаться в международные регистры. В России очень мало регистров, да и донорская база в них крайне мала — искать нужно за рубежом. Кстати, карельский генотип немного отличается от европейского и американского. Нам еще сложнее.
Карельский регистр доноров костного мозга создавался Юрием Иоффе при гематологическом отделении Республиканской больницы. Сейчас в нем примерно 3000 человек, активных из них, по мнению Александра Мясникова, 1000.
— Карелия — один из немногих регионов России, где есть хоть какой-то регистр доноров. Мы, конечно, хотим, чтобы он был больше. Юрий Иоффе нам очень помогает: он бесплатно ищет донора. Не активирует, конечно, но мы хотя бы знаем, что есть кто-нибудь подходящий.
Чтобы карельский регистр развивался, необходима пропаганда донорства. Только нужно учесть небольшое население Карелии, надо привлекать соседние регионы. Тогда, конечно, результат будет.
Должны ли делать аллогенные трансплантации в Петрозаводске?
— Аллогенные трансплантации не нужно делать в каждой больнице. Так во всем мире. Это логично проводить такие сложные операции там, где они не редкость, то есть в федеральных центрах — в Москве, в Петербурге. Ведь аллогенная трансплантация требует срочных лабораторных исследований, специальных диагностических и лечебных процедур.
При аллогенной трансплантации человек беззащитен: в крови нет лейкоцитов. Поэтому нужно постоянно контролировать уровень микробов. Для этого существуют специальные аппараты стоимостью 100 миллионов долларов. Не менее дороги расходники. Такой аппарат в течение нескольких часов дает ответ. Но, например, в Петербурге такого современного прибора нет: ответ получить можно не ранее чем через сутки. Разница огромна. Но в регионах вообще нет подобного оборудования.
— Нельзя сказать, что в Карелии не получают аллогенную трансплантацию и умирают. Получают почти все, кому это нужно. Особенно молодые. А есть и те, кто отказывается от трансплантации: знают, какой это тяжелый вид лечения, знают о последствиях.
Кто платит за трансплантацию костного мозга?
— Для человека, которому необходима аллогенная трансплантация, многое делается бесплатно. Но донора не ищут — 2 миллиона рублей на эти цели никто не даст. К слову, и лекарства, особенно дорогостоящие не всегда доступны. Очень большой недостаток официального финансирования.
— Когда я стажировался в Германии, был случай: ребенку нужна была пересадка печени, — рассказывает Александр Мясников. — Где лучшее отделение по трансплантации печени у детей? В Дюссельдорфе. Звонок в Дюссельдорф — там ребенка очень рады взять: им ведь за это платит страховая компания. А пациенту, кстати, оплачивается поезд до Дюссельдорфа, а на вокзале его встречает такси. Вот так должно быть.
— Поэтому, когда мы, например, ставим человеку диагноз «острый лейкоз», сразу сообщаем, что лечение будет долгим, а если предстоит аллогенная трансплантация, советуем открывать счет и собирать деньги. У нас сейчас трое таких пациентов.
[parallax-scroll id=»248555″]
Один из пациентов, ожидающих сегодня трансплантацию, — трехлетний Мирослав Фалеев. «Республика» готовит большой репортаж о мальчике и его родителях — они борются с раком крови вместе.
Благотворительность — это хорошо. Только она должна быть локализованной: собирать средства нужно для конкретного больного. Если, конечно, это не большой фонд, как, например, фонд Чулпан Хаматовой. Там крутятся миллиарды: он и от государства получает, и от бизнесменов. И это неплохо. А вот собирать деньги себе на лечение через маленькие фонды не нужно. Ведь часть они берут себе — на функционирование. И иногда очень большие проценты.
«Были случаи, когда в Карелии собирали деньги на лечение тех, кого мы вообще не знаем. Или, например, тех, кого мы уже вылечили. И еще — кто-нибудь проверял, что за копилки для сбора средств стоят в магазинах? Много мошенников. Нужно индивидуально оказывать помощь».
— Но это не значит, что со всеми фондами нельзя иметь дело. Мы часто советуем своим пациентам обращаться в фонд Арины Тубис. Он помогает по мере сил: оплатит позитронно-эмиссионную томографию, типирование или хотя бы дорогу. Да и визиты волонтеров к больным детям — чем не помощь?
Кстати, в Карелии очень отзывчивые люди, и, несмотря на то, что мы не очень процветающий регион, деньги для лечения детей удается собрать почти всегда.
Где лучше результаты лечения?
— В России медицина сделала большой шаг вперед: в СССР было хуже. У нас есть все лекарства для первичного лечения больных. В нашей Республиканской больнице очень хорошие результаты по ремиссиям. Они не хуже, чем в Европе. Только вот дается нам это в тысячу раз труднее. А в случае рецидива — еще труднее. Но мы стараемся.
«Не нужно думать, что в России ничего не делается. Это глупости: везде умирают одинаково — где-то процент больше, где-то меньше. Люди смертны».
— Гематологическое отделение участвует в клинических исследованиях, поэтому у нас появляется большинство новых лекарств. Они находятся в Республиканской больнице на испытании. Это иммунные препараты, таргентные, генные препараты. Надеюсь, они когда-нибудь заменят трансплантацию.
Звонок на мобильный:
— Александр Абрамович, консилиум. Срочно. Пациентка — такая-то…
Договаривать пришлось на ходу.
— Нужно ли говорить больному, что у него рак?
— Обязательно. Если, конечно, человек хочет: некоторые сразу говорят, что и слышать ничего не желают. Но диагноз нужно грамотно подавать. Тут все зависит от опыта и умения. Если бабушка со слезами спрашивает: «У меня что, рак крови?». Говорим: нет, это острый лейкоз. И сообщаем, какое лечение необходимо: например, химиотерапия. И это всегда стресс, всегда страх. Но потом пациент видит, что все палаты заполнены химиотерапией — быстро адаптируется.
- Александр Мясников, заведующий гематологическим отделением
- Гематологическое отделение Республиканской больницы
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
- Республиканская больница
Я начинал работать в Советском Союзе. Тогда сообщать диагноз тяжело больным пациентам было не принято. Это плохо: люди тайком пытались достать истории болезней. Иногда велись две истории: одна для врачей, другая для больных. Это маразм. А ведь, бывало, врачам приходилось говорить пациенту, что он будет здоров, а жить ему оставалось совсем немного.
— Лечить человека, который все знает, гораздо легче: он уже подготовлен. Это важно. А иначе как можно объяснить, почему нужно лечиться несколько лет? Как объяснить тяжелое состояние, вызванное высокодозной химиотерапией? Больной понимает, какие могут быть осложнения. Готовится. За выздоровление врач и пациент борются сообща. Это гораздо эффективнее «добренького вранья».
И последний вопрос уже в лифте:
— Мешает ли врачебной практике должность заведующего отделением?
— Нет. Хотя бумажной волокиты много. И с каждым годом все больше. Ну а у кого ее нет…
«Извините, но дальше вам нельзя», — прервал разговор Александр Абрамович. И ушел еще дальше от входа, еще глубже — в палату.