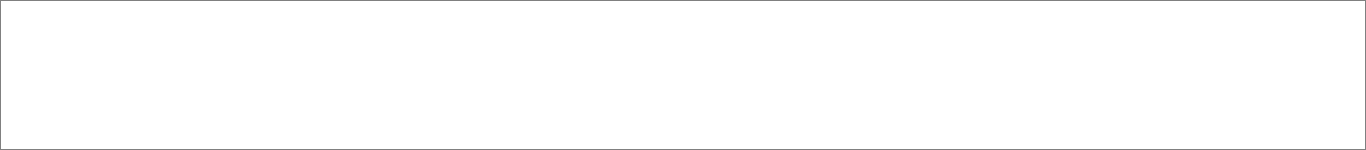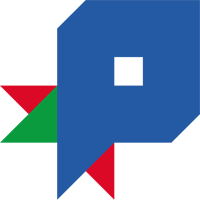История открытия и полевого изучения петроглифов Онежского озера длится с середины XIX века. Беломорские наскальные изображения введены в научный оборот около ста лет назад. Среди исследователей — путешественники, известные европейские и советские археологи, геологи, искусствоведы, этнографы и просто любители древностей из разных стран.
Среди ученых, изучавших карельские петроглифы, много монументальных фигур, легенд археологии. Искусство монументальное — и фигуры монументальные.
Официальное открытие. Онежские петроглифы

Константин Гревингк. 1819 — 1887. Из книги «Петроглифы Карелии»
Петроглифы Онежского озера открыл ученый из Санкт-Петербурга, Константин Гревингк. В 1848 году он совершал «геогностическое путешествие» по Олонецкой губернии, в уездном Пудоже ему и рассказали о загадочных «резьбах».
— Гео — земля, гностика — изучение; Константин Демьянович был геологом и работал в минералогическом музее Санкт-Петербурга, — рассказывает археолог Надежда Лобанова. — Путешествовал по Олонецкой губернии где-то на лошадях, где-то по воде, на лодке. Доехал до Повенца и оттуда отправился в Пудожский край.
Стоял конец сентября, погода была прекрасная. Местные рассказали Гревингку о наскальных изображениях в нескольких километрах от Шалы, отвезли на место, поселили в деревне Бесов Нос.
Ученый был человеком впечатлительным, здешние места его поразили. Сделал первые зарисовки — от руки, на обычном листе бумаги. Изобразил два мыса, Бесов и Пери Нос-3, нанес фигуры, которые смог различить. Рисовальщик он был не ахти какой, разломы и трещины ему удались лучше, чем сами рисунки. Но ученый сразу понял, что эти выбивки — доисторические, каменный век. Геологи обычно археологов хорошо понимают.

Петроглифы на берегу Онежского озера. Фото: Игорь Георгиевский
Вернувшись в Петербург, Гревингк выступил на заседании Императорского географического общества, где доложил об «олонецких резьбах». О чем появилась краткая заметка в «Олонецких губернских ведомостях».
И тут собрался в дорогу на Бесов Нос учитель Петрозаводской мужской гимназии Петр Швед. Известно о нем мало: преподавал мальчикам статистику и математику. И, похоже, был выходцем из Пудожского края, о рисунках на онежском берегу знал давно. Потому что немедленно отложил логарифмическую линейку и отправился в родные края — сделать свои зарисовки наскальных изображений.

Надежда Лобанова, археолог. Фото: Игорь Георгиевский
— Зарисовки у Шведа получились лучше, — говорит Надежда Лобанова. — Выполнял он их тоже от руки, но фигур вышло больше, детали точнее. Результаты работы учитель опубликовал в «Записках Русского географического императорского общества». Раньше считалось, что онежские петроглифы Гревингк и Швед открыли в 1848 году независимо друг от друга. Сегодня мы думаем, что местный учитель знал о них раньше, просто нигде об этом не писал.
Копии онежских петроглифов (Гревингка и Шведа), сделанные от руки, — первое свидетельство о памятниках. И откликов было много, даже Николай Чернышевский в «Отечественных записках» поместил информацию. Сразу пошли споры о том, к какому времени эти рисунки принадлежат. Большинство считали, что выбивки сделаны новгородским племенем, потому что не могли жившие здесь до новгородцев дикари (саамы, чудь, лопь) изображать зеркала и расчески. Не было у них ни зеркал, ни расчесок.

Петроглифы, те самые «зеркала» и «расчески». По поводу круга с петлей ученые до сих пор спорят, а вот про «расческу» современная наука точно знает — это лодка. Фото: Игорь Георгиевский
Исследователи записали и местные легенды о происхождении таинственных фигур и знаков. По сообщению Константина Гревингка, некогда обитали на этом берегу бес и бесиха, которые «удостоверили свое пребывание здесь в странных фигурах на скалах, а после прихода живого Христа и истинной веры злые духи хотели уйти, но обрушились вместе с блоком со скалы и утонули».
По данным Петра Шведа, «бес и бесиха нежные супруги, жили на берегу своим хозяйством. Бес вздумал перенести свой дом дальше и потащил мыс в озеро, но успел оторвать от скалы только один угол, который вместе с ним и упал в воду и утонул».

Петроглифы. Легенды Бесова Носа. Фото: Игорь Георгиевский
Иноагенты
В веке двадцатом о петроглифах Онежского озера начали писать в прессе. Местные краеведы и российские исследователи наперебой гадали о том, что означают удивительные рисунки на скалах. Газеты и журналы до Европы шли долго, но читателя своего нашли.

Густаф Халлстрем. 1880 — 1962. Из книги «Петроглифы Карелии»
В 1910-ом году на Бесов Нос приехал шведский археолог, профессор Стокгольмского университета Густаф Халлстрем.
Надежда Лобанова:
— Первый профессиональный археолог на онежских петроглифах, европейский ученый с именем — в Скандинавии он вообще классик. Занимался наскальным искусством Швеции и Норвегии, публиковал вооот такие кирпичи! У меня есть двухтомник и большой альбом иллюстраций Халлстрема (когда в Центре петроглифов создадим библиотеку, передам туда эти книги).
Первая поездка состоялась в 1910 году. Собрали материалы, нашли много новых мысов с петроглифами. И спустя четыре года приехали снова: Халлстрем с коллегой и британский археолог из Кембриджа Майлз Беркит.
И вот работает эта международная команда в глухом карельском лесу, занимается чистой наукой. А тем временем наступает август: убит в Сараево эрцгерцог Фердинанд, Россия на стороне Антанты вступает в войну.
Пудожские местные власти взволновались — война на пороге, а на нашем берегу иностранцы с планшетами и картами! Не иначе, германские шпионы. И всю компанию забрали до выяснения личностей, неделю продержали. Вернули чертежи или нет — история умалчивает.

Археологи на онежских петроглифах. Фото: Игорь Георгиевский
Официальное открытие. Беломорские петроглифы
Петроглифы Белого моря для публики открыл не ученый — студент. В 1926 году в Карелию на этнографическую практику приехал Александр Линевский.

Александр Линевский, археолог, писатель, этнограф. Фото из фондов Национального архива Карелии
Из воспоминаний Александра Линевского:
«В семи километрах от старинного села Сороки (ныне город Беломорск) находится селение Выгостров. В нем, судя по рассказам сорочан, не было ничего для меня интересного. «Хлеб жуют да селедочкой закусывают», — так говорили они о жителях Выгострова.
Однако мною почему-то овладело то неуемное беспокойство, которое хорошо знакомо участникам любой экспедиции: «А вдруг там найдется что-нибудь замечательное?» В августовскую жару, с тяжелым рюкзаком на спине, побрел я в деревню Выгостров. По дороге мне посчастливилось разговориться с жителем Выгострова Григорием Павловичем Матросовым.
На следующее утро он повез меня на лодке к островку, называемому «Бесовыми следками». Здесь на пологой скале были выбиты семь следов то правой, то левой человеческой ступни, которые вели к изображению «беса» — самой крупной фигуре на этой скале. «Бесовы следы» окружало множество силуэтов оленей, лосей, китов и других животных. Были выбиты здесь на первый взгляд малопонятные сцены быта и различных промыслов. Всего на этой скале насчитывалось до трехсот рисунков.
Я, как увидел, так растерялся. Знал, что есть такие петроглифы. Сразу понял, что это для меня нечто большее. Так и оказалось — на всю жизнь».
Григорий Матросов, тот самый старовер, посоветовал студенту купить обои. Линевский обводил петроглиф химическим карандашом, затем накладывал сверху мокрую бумагу — на листе оставался отпечаток. Рисунки он повез в Ленинград.
Из воспоминаний Александра Линевского:
«У нас была традиция — студенты показывают все, что нашли. Мои эти чертежи заняли целую стену. Всеобщее внимание. Из Москвы приехал профессор Городцов, он интересовался этим. Обнял меня, поцеловал и говорит: «Молодец».

Прорисовка скалы Бесовы следки, 1938 год. Автор: Владислав Равдоникас, археолог
После окрытия Бесовых Следков Александр Линевский переезжает в Карелию. Изучает петроглифы, защищает кандидатскую диссертацию. Александр Михайлович придерживается «житейской» точки зрения: рисунки на скалах Карелии — это описание жизни и быта неолитического человека. Охота и рыбалка, лыжи и лодка. Именно Линевский становится автором гипотезы о «капканах» на онежских скалах (помните «зеркала»?).
— У Линевского была такая теория круглогодичности, топографический принцип — дескать, на петроглифах изображена жизнь человека по сезонам, — говорит Надежда Лобанова. — И если на беломорских он подтверждение этой теории находил, то про онежские в основном фантазировал. Но диссертацию его читать очень интересно.

Владислав Равдоникас. 1894 — 1976. Из книги «Петроглифы Карелии»
В первой половине двадцатого века в археологии Карелии две главные фигуры, Владислав Равдоникас и Александр Линевский.
Линевский полагает, что петроглифы — это картинки с натуры. И пишет «Листы каменной книги», повесть о мальчике Льоке. Эту книгу читает каждый карельский школьник, переоценить ее научную популярность невозможно.
Равдоникас — автор двух научных книг «Наскальные изображения Онежского озера» и «Наскальные изображения Белого моря», их считают образцами подобных исследований. Именно Равдоникасу принадлежит популярная до сих пор гипотеза о космических культах (солярно-лунарных) у древних жителей Карелии. Тотемизм, поклонение солнцу, развитое представление о космосе.

Бесов Нос. Фото: Игорь Георгиевский
Бобр
Константин Лаушкин, этнограф из Санкт-Петербурга, выбирает для работы с карельскими петроглифами еще одно направление.
Он развивает идеи Равдоникаса о солярно-лунарных культах в наскальном искусстве Онежского озера и предлагает свое толкование петроглифов — на основе мифологии северных народов (саамов). Статьи Лаушкина в научных сборниках читают как детективы.
Лаушкин полагает, что ключом к расшифровке онежских петроглифов являются солярные и лунарные знаки. А скала — грандиозный храм главного божества, Солнца.

Константин Лаушкин. 1922 — 1994. Из книги «Петроглифы Карелии»

На Бесовом Носу. Фото: Игорь Георгиевский
Надежда Лобанова:
— На скалах Онежского озера есть одна композиция, которую Линевский, скажем, считал сценой охоты. Человек с собакой охотится на лося. А Лаушкин увидел в собаке лягушку и решил, что тут у нас саамский миф: лягушка украла солнце. Важенка оленя или лося у саамов действительно является символом солнца. И вот злая лягушка его крадет, но храбрый охотник за ней гонится, убивает, а шкуру сжигает в топке. И снова сияет солнце! А художник в петроглифах отражает борьбу светлого и темного начал.
А потом на петроглифы приехал зоолог Петр Данилов и прямо заявил, что никакая это не лягушка и не собака, а бобр. Просто бобр. Вот такая история.
Петроглифы – проект «Республики» об уникальных памятниках наскального искусства Карелии. В прошлом году петроглифы Онежского озера и Белого моря внесены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.