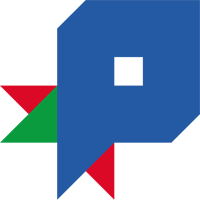Денис Драгунский: «Я очень люблю Бунина переиначивать, потому что его рассказы провоцируют засунуть в них нож, как в банку с тушенкой, вскрыть и попытаться это съесть». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
Мне очень понравилось это общение. Несмотря на то, что запись передачи в студии «Сампо ТВ 360» сопровождалась форс-мажорными обстоятельствами и разговаривали мы уже ближе к ночи после довольно трудного дня, Денис Викторович был уверен, что разговор получится хорошим. Еще на берегу мы договорились, что про Дениску Кораблева я задам ему только пару-тройку вопросов и хватит. Представляю себе, в какой уже раз ему приходится рассказывать, что он не выбрасывал манную кашу из окна.
Мы разговариваем с Денисом Драгунским о судьбе, литературе, женщинах, хемингуевине и прустятине и о том, почему полезно представлять себе, что было бы, если…
В Петрозаводск писатель Денис Драгунский приезжал по приглашению Национальной библиотеки Карелии на Библиоконгресс. Для карельской публики писатель прочитал лекцию «Писатель и интернет. Серьезная литература, массовая литература, сетевая литература».
Денис Драгунский — специалист по греческому языку, политолог, блогер. Колумнист интернет-издания Gazeta.ru. Сын детского писателя Виктора Драгунского и прототип героя его «Денискиных рассказов». В 57 лет Денис Драгунский начал писать книги. В издательствах вышли его книги «Нет такого слова», «Плохой мальчик», «Господин с кошкой», «Пять минут прощания», «Третий роман писателя Абрикосова», «Богач и его актер», «Третье лицо», «Автопортрет неизвестного», «Архитектор и монах» и другие.
— Как возникла идея написать комментарии к «Денискиным рассказам»?
— Это возникло всё очень просто. Из вопросов, которые мне постоянно задают. Они двух сортов: правда ли, что все это было: влюблялся в девочку на шаре, менял самосвал на светлячка, ездил на велосипеде с мотором вокруг двора и, конечно, выкидывали ли я кашу на улицу. Правда ли это было? А второй вопрос тоже немаловажен, потому что современные ребята часто не понимают, почему телефон висит на стенке в коммунальной квартире. Что такое коммунальная квартира? Почему там мы бегаем по коридору, а какие-то тетька с дядькой бегают вокруг с чайниками и горячими сковородками и говорят, не путайтесь под ногами? Для них это какой-то странный мир. Или папа говорит Дениске, у которого остается сдача от сданных бутылок: «У тебя есть две копейки, дай мне их на автомат». Для ребят самая загадочная фраза! Мне эти вопросы задавали много раз во время моих встреч со школьниками.
Детям очень интересно посмотреть на Дениску. Спрашивают: сколько вам лет? Я, допустим, говорю: 65 (сейчас мне уже 70). Они говорят: «Ой, у меня дедушка моложе!» Ну, такой у тебя дедушка молодец. «А у вас есть дети?» -«Есть. Девочка». — «А сколько ей лет?» — «44». — «Ой». Ну, и так далее. Второй вопрос — это то, что в науке называется «реальный комментарий». Первый вопрос, конечно, гораздо более интересный: было это на самом деле или не было? Я говорю, что нет, не было. Всё, что описано в «Денискиных рассказах», за исключением одного сюжета, всё это художественный вымысел моего отца писателя Виктора Драгунского. Правда, весь этот вымысел сформирован из реальных кусочков. Я могу сказать, что в этой книге нет ни одного упоминания человека просто так. Про каждого можно сказать, кто это был.
Правда, надо сказать, что у меня есть большое желание написать большую серьезную книгу — автобиографический роман про детство. В издательстве ее ждут-не дождутся, но она двигается не так быстро, как бы хотелось. Это будет очень толстая книжка с таким несколько набоковским названием «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Там я расскажу о своем детстве, как было на самом деле, как я был маленьким, а потом юным.

Денис Драгунский: «Всё, что описано в «Денискиных рассказах», — художественный вымысел моего отца писателя Виктора Драгунского». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— Откуда взялась фамилия Кораблев?
— Папа придумал эту фамилию. Ему нравилось, что в этой фамилии есть что-то неуловимо романтическое. И я помню, что где-то в 1965 году в газете «Известия» появилась статья, что где-то далеко от Москвы жило ужасное семейство каких-то спекулянтов, жуликов, хулиганов и пьяниц по фамилии Кораблевы. И папа очень расстроился, что они испортили такую прекрасную фамилию. Я его утешал: «Ладно, папа, пройдет время, и все забудут эту историю!»
— Несколько лет назад меня поразило известие о том, что в Петербурге погиб Михаил Слоним, тот самый Мишка из «Денискиных рассказов». Можете рассказать о нем и об Аленке?
— Вот про Аленку я ничего не могу толком рассказать. Мы с Мишкой долго и тщательно ее искали, но не могли найти. Может, она поменяла фамилию и куда-то уехала. Может, уехала из страны. А что касается Мишки… Это был чудесный человек, чудесный парень, который окончил физмат, работал по специальности в НИИ, потом в 1990-е занялся бизнесом. Причем крупным. Он был управленцем на терпящих бедствие крупных заводах. Потом у него была контора юридических переводов, очень серьезная. Вообще, это был человек незаурядный. Мишка был великий знаток мистики. Он был крупнейший знаток современных европейских мистических школ. Таких уже мало осталось, как он. Причем всё это он сам вызнал, по книгам. У него всегда можно было поучить прекрасную консультацию. И вот он так ужасно глупо, нелепо погиб. Он просто, что называется, выскочил… просто сошел с тротуара на один шаг, чтобы проголосовать машине — подъезжавшему такси. И в это время какой-то «хороший» человек (пускай с ним уже бог разберется), обгоняя стоявшую машину — знаете, бывают такие нетерпеливые люди на дороге — он его сбил. Насмерть. Мне так жалко, что меня не было там в этот момент. Это было в Петербурге. Туда наша компания поехала, а я не смог. Я иногда думаю: господи, а вдруг, если бы я там был, я мог бы его просто отвлечь: «Миш, пойдем, например, покурим, поговорим». Взял бы его за рукав, и он бы не сделал бы этого проклятого шага. Мне так ужасно жалко это сознавать, мне так его жалко.
— У вас и в рассказах очень часто встречается условное наклонение. Что было бы, если бы Маяковский не застрелился, а стал крупным издателем в Париже? Взял бы он у Пастернака его роман или не взял бы? Вам свойственно придумывать альтернативные версии событий?
— Есть такая фраза смешная, что история не знает сослагательного наклонения. Это сказал какой-то немецкий историк, забыл его фамилию. Она звучит так: история не знает слова «если». А Сталин, беседуя с немецким писателем, сказал ее так, как мы ее сейчас помним. Понятно, что он имел в виду непреложность победы большевиков в России, но на самом деле вся история состоит из сослагательных наклонений. Из бесконечных развилок и подвижек. Тем более, из них состоит человеческая жизнь. У меня есть книжка обо мне, как бы автобиографическая повесть в рассказах. Называется «Мальчик, дяденька и я». Там она почти вся посвящена обсуждению жизненных альтернатив. Что было бы, если бы я провалился на экзаменах в вуз. Если бы я не встретился с этим человеком или, наоборот, встретился с тем, с кем я отказался встречаться. Если бы я женился на этой девушке, а не на той? Это всегда бывает увлекательное такое моделирование. Мне кажется, оно важно не только для писателя, который так развлекается, что ли, но и важно для человека, чтобы он понял сам себя. Понял, что его жизнь — это не просто накатанный сценарий, но всегда каждую минуту это какой-то выбор. И, представляя себе, что могло получиться или не получиться от принятого тобой решения, ты более ответственно начинаешь к этому решению относиться. К каждому поступку своему.

Денис Драгунский: «Пьес было написано много, а случай славы был только один. Поэтому я набрался мужества и все эти пьесы и сценарии снес на помойку». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— Жанр новеллы вам удобен?
— Я его просто люблю, поэтому он мне удобен. Я начал писать короткие новеллы по техническим соображениям. Дал себе задание писать короткие рассказы, которые помещаются целиком в экран компьютера, на 1,5 тыс. знаков. Чтобы человек мог раскрыть, прочитать и быть довольным. Или недовольным. И отсюда пошла такая новеллистичность. То есть обязательно фабула, обязательно резкое столкновение ситуаций, характеров, резкая перемена ситуации и какой-нибудь совершенно неожиданный конец. Конечно, мне в такой форме довольно уютно, потому что у меня вся жизнь состоит из резких таких фабульных поворотов, неожиданных завершений.
Ну, например, я много раз менял жизненные проекты. Проходил их, а потом начинал новые. Я был многообещающий молодой художник. Я был филолог — специалист по греческой палеографии. Потом я стал преподавателем современного греческого языка. Потом начал писать инсценировки, сценарии, пьесы. И тут у меня что-то не получилось. Мне-то самому это нравилось, но людям, которые это читали, не очень. За мной не бегали режиссеры и не просили поскорее написать. У меня были, конечно, славные моменты, когда пьеса была поставлена по моей инсценировке. Мощная инсценировка — и спектакль был мощный. И я стоял на сцене театра в 30 тысяч человек в зрительном зале. И режиссер сказал: автора! Я вышел, поклонился — о, это такое счастье! Но этого было мало — пьес-то было написано много, сценариев — много, а такой случай только один. Поэтому я набрался мужества и все эти пьесы и сценарии снес на помойку. Вот реально снес на помойку. Тогда еще не было никаких дискет, интернета, всё это печаталось на машинке и иногда в нескольких вариантах. Поэтому мы с моей дочерью весь день выволакивали эти вещи на помойку.

Денис Драгунский: «Многие рассказы Чехова кончаются полуоткрытой дверью. Хочется туда сунуть нос как минимум, а лучше встать на цыпочки, зайти и посмотреть, что происходит». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— И что вы стали потом делать?
— Я пошел заниматься политической журналистикой, анализировать межнациональные отношения и конфликты. И вот тут у меня было счастье. Первые же мои статьи стали переводиться на иностранные языки, и меня стали приглашать читать лекции, вести семинары. Я был любимец телевидения — это было большое счастье. Потом в один прекрасный день я решил, что с этим тоже пора кончать, с политической аналитикой и политикой как таковой, и в 2007 году за неделю до своего 57-летия я сказал, что ухожу из политики в литературу. И стал писать рассказы в интернете. И тут тоже получился какой-то успех определенный.
— Чем рассказы Бунина, например, отличаются от рассказов Чехова?
— Есть такие рассказы, они вроде ни про что. У Бунина, например, есть рассказ «Жнецы». Или рассказ «Антоновские яблоки». Читаешь-рыдаешь: какой стиль, какой язык, какой аромат. Переложить это в роман или долго на эту тему фантазировать по сюжету невозможно. Это уже закрыто. У Бунина вообще рассказы такие закрытые — и «Руся», и «Натали», и «Митина любовь», и «Пароход «Саратов»». Они все кончаются смертями какими-то, разлуками. А вот чеховские рассказы иногда имеют приоткрытые финалы. Например, рассказ «Соседи», самый главный рассказ русской литературы, на мой взгляд. Он тоже кончается тем, что хотел сказать главный герой. Ивашин ехал верхом и думал, что хотел решить вопрос, а только всё запуталось. И он совершенно не понимал, как жить дальше. И непонятно, что будет с Зиной, с этим ее любовником, гражданским мужем Власичем. Непонятно, даст ли еще жена развод, непонятно, как отреагирует мать Зины и этого главного героя Ивашина на то, что происходит. Хочется фантазировать дальше, дописывать эту историю. «Рассказ неизвестного человека» и «Ариадна» кончаются так же, полуоткрытой дверью. И хочется туда сунуть нос как минимум, а лучше встать на цыпочки, зайти и посмотреть, что происходит.
Я иногда развлекаюсь переиначиванием классики. Я очень люблю Бунина переиначивать. Именно потому что его закрытые рассказы провоцируют вскрыть их, засунуть нож как в банку с тушенкой, вскрыть и попытаться это съесть. Представить себе, как это все можно по-другому расположить.

Денис Драгунский: «Все эти вот учебники жизни — я их терпеть не могу». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— Почему у вас в рассказах много женских названий?
— Ой, я не знаю. Уже не могу эти рассказы вспомнить. Я написал их 1 300 или 1 400. Как можно их все вспомнить? Я вообще к женщинам, может быть, отношусь лучше, чем к мужчинам. Они мне нравятся тем, что в них больше крови, больше почвы, больше реальности, больше страсти. Земли больше, чего-то настоящего, натурального, меньше рассуждательства, страха. Поэтому я люблю современную женскую прозу современную. Не романы для женщин — это отдельная петрушка, а то, что пишут современные женщины. Там они пишут страстнее, чем мужчины, и это прекрасно на самом деле.
— Каких авторов должна любить девушка, чтобы это смутило вас на первом свидании?
— Во-первых, я не стал бы задавать такие вопросы девушке на первом свидании. А потом, можно ведь любить и детективы. Анна Ахматова, например, любила детективы читать. Наверное, книжка, которая может отвратить от знакомства, должна быть чем-то резким, грубым и ужасным.
— Как что?
— Как какая-нибудь мистика — Кастанеда, Коэльо, например, для меня. Или на полном серьезе человеку нравится книжка какого-нибудь американского миллиардера, который учит, как стать миллиардером. Или как влиять на людей. Все эти вот учебники жизни — я их терпеть не могу.
Вообще, вы знаете, под конец жизни перестаешь быть таким принципиальным. Я помню, как я в юности девушке читал стихи. И то, и се, пятое-десятое, Ахматову, Гумилева… Нет, не пробивает. Тогда начал читать Есенина. Есенин пробил, потому что она знает эти стихи. Потом она сменила гнев на милость, погладила меня по руке и говорит: «А теперь почитай Асадова». Всё, ясно, что с такой девушкой у меня не получилось. Но тогда мне было 17 лет. В этом возрасте все кажется суперсерьезным.

Денис Драгунский: «Этому приему уже примерно 120 лет. Коньяка такой выдержки не бывает, а прием есть». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— Ваши рассказы чаще всего состоят из коротких предложений. «Фиеста» у Хемингуэя написана в таком стиле.
— Тут есть два момента. То, что называется хемингуевиной или хэмингуятиной — это отработанный литературный прием, как и то, что находится на другом полюсе — прустятина. Это когда на 40 страницах описывают то, как герой протирает глазки, что он при этом чувствует и что он вспоминает. Это отработанный прием. Писать, как Пруст, очень трудно, на самом деле, потому что это очень мощный и, как ни странно, экономный писатель. То, что он видит, он расширяет, расширяет… Хемингуэй — это Чехов, на самом деле. Причем даже Чехов и Станиславский. Это когда вместо того, чтобы описывать чувства героя, описывается какой-то его жест. Чеховские штучки: когда доктор Астров вместо того, чтобы зарыдать или разразиться монологом, когда уезжает любимая женщина, говорит: «А теперь в Африке, должно быть, жара». Боже мой, как он страдает! Этому приему уже примерно 120 лет. Коньяка такой выдержки не бывает, а прием есть.
Вообще, писать коротко лучше, на мой взгляд, чем писать кудряво, растекаясь в эпитетах, где каждому существительному нужно прилагательное, и хорошо бы еще придаточное предложение завернуть. Чехов говорил Горькому: «Можно писать просто: «человек сел на трамвай», всё понятно. А можно написать: «высокий, сутулый, покачивающийся человек с немытыми волосами в линялой косоворотке осторожно присел на пыльную измятую запыленную от проходящих мимо подвод, траву. Сел робко и затравленно оглядываясь». Это из воспоминаний Горького о Чехове.
Мне часто говорят: как вы хорошо пишете. Какие у вас хорошие рассказы. Но у вас есть один недостаток. Они не художественные. Бог ты мой! Значит, нет красивых описаний, метафор. Хочется сказать: «Ребята, художественности вы от меня не дождетесь!»
Художественность сразу превращается в штамп. «В комнату вошел прыщавый юнец», «Наташа еще была угловатым подростком», «Он в тоске прислонился горячим лбом к холодному стеклу», «Упал как подкошенный и заснул как убитый». Через раз это станет пошлейшим штампом.
Есть такая избыточная художественность, картинность, которая бывает у Бунина и особенно у Набокова. Мне как читателю в этом тексте делать уже нечего. Автор всё сказал за меня. А надо читателю дать возможность додумать, домыслить, представить себе. Потому что гениальные по своей живописности сцены у Бунина и Набокова — это все равно что рассматривать фотографию в лупу. При том что они, конечно, великие писатели, безусловно.
Писать так же, как сто лет назад, мне кажется, смешно и глупо. Литература развивается, и мы развиваемся вместе с ней. Нельзя использовать манеры, навыки и мастерство старых мастеров. Хотя нам надо учиться их требовательности к себе.

Денис Драгунский: «Литература тотального приколизма — всё интересно, забавно, классно». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— Какой эпитет подходит для века современной литературы, имея в виду, что золотой и серебряный прошли уже?
— Я бы сказал, что это век композитных материалов. Тут одновременно существуют металл, пластик, что-то еще, какая-то керамика. Сейчас единства в литературе, конечно, нет. Пластмассовый век — это были 1960-е годы в мировой культуре. Сейчас это век композитов. Или виртуальный век, облачный.
Есть массовая литература и литература серьезная. А есть еще сетевая литература, которая сейчас развивается. Массовая литература утверждает моральные ценности: преступника ловят, принцесса дожидается принца, зло наказывают. В серьезной литературе все эти ценности пробуются на излом, подвергаются сомнению или вообще обесцениваются — всё равно будут господствовать сила и похоть. В лучших образцах серьезная литература пробует ставить героя в безвыходное положение, в тупик, оставлять его на обрыве, над пропастью. А вот сетевая литература вне морали. Ценностей там вообще нет никаких. Это литература такого вечного «любдыбра»: увидел — и как забавно, как смешно.
Лозунг массовой литературы: поступай правильно и с тобой будет всё хорошо. Лозунг серьезной литературы: а так ли хорошо быть хорошим? А лозунг сетевой литературы: ой, как прикольно. Литература тотального приколизма — всё интересно, забавно, классно. Пластическое оформление этой литературы: авария, и все начинают снимать на телефоны, как горит машина и кто-то умирает. Что делает массовая литература? Герой бросается на помощь, гасить огонь, вызывать скорую, вытаскивать людей из огня. Герой фундаментальной литературы говорит: «Ну-ну, доигрались, может, так вам и надо всем. Вот ты гибнешь сейчас в своем дорогом автомобиле, а ты вспомни, сколько людей ты уволил позавчера! Поделом тебе». А вот эта сетевая литература просто: смотри, какой прикол. Но, может, я слишком жесток и несправедлив. Это то, что мне кажется сейчас.

Денис Драгунский: «Я очень люблю новые формы». Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
— Среди «Денискиных рассказов» есть такие: «Что я люблю» и «Что я не люблю». Можете рассказать тоже, что вы любите, а что нет?
— В моем возрасте это будет звучать по-стариковски. Что я люблю? Я люблю правду, ответственность, я люблю сочетание свободы и порядка. Я люблю свободу и ответственность. Я люблю людей, которые отвечают за свои поступки. Я не люблю людей, которые живут только сегодняшним днем, для которых не существует исторического времени. Я люблю искренность и смелость в отстаивании правильных вещей. Я очень люблю новые формы.
«Республика» благодарит сотрудника Национальной библиотеки Карелии Александра Докучаева за поддержку в подготовке интервью.
«Персона» — мультимедийный авторский проект журналиста Анны Гриневич и фотографа Михаила Никитина. Это возможность поговорить с человеком об идеях, которые могли бы изменить жизнь, о миропорядке и ощущениях от него. Возможно, эти разговоры помогут и нам что-то прояснить в картине мира. Все портреты героев снимаются на пленку, являясь не иллюстрацией к тексту, а самостоятельной частью истории.