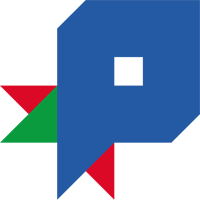• • •
Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, взять вина.
Но включили телевизор,
А там фейс Залогина.
Широка страна родная,
В каждом доме сериал.
НТВ включил недавно,
На Залогина попал.
Ехал Грека через реку,
Плыл в «Бандитский Петербург».
И среди бандитов Гену
Увидал наш Грека вдруг.
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя! Дядя Гена
На экране без конца».
Анатолий Коган,
основатель Продюсерского центра «Фабрика Грез»
• • •
(Стихи, посвященные Геннадию Залогину, читались на многочисленных театральных капустниках в Петрозаводском Доме актера.)
Геннадий Залогин, приехавший в Карелию после театрального вуза голубоглазым высоким блондином, за 25 лет успел сделать головокружительную карьеру от артиста амплуа «кушать подано» до директора театра «Творческая мастерская» и Петрозаводского Дома актера.
Для жителей Карелии он был не только известным актером местного театра, но и артистом сериалов, которые показывали на федеральных каналах, — лицом из телевизора. В конце концов Геннадий Залогин стал административным директором в театре Et Cetera у Александра Калягина в Москве.
Большая часть биографии Залогина прошла у нас на глазах — активный игрок на культурном поле Карелии, он был постоянным героем телевизионных сюжетов, репортажей с премьер и серьезных интервью на театральные темы. Геннадия Залогина знали, искренне любили и единогласно уважали.

«Белоснежка и семь гномов». Петрозаводский Русский драматический театр. В роли принца — Геннадий Залогин. Фото: Борис Семенов
Он сочетал в себе несочетаемое. Будучи хорошим актером, грамотным менеджером культуры, умел собирать деньги и заводить друзей себе и театру. При этом Залогин сохранял вокруг себя горизонтальные связи, так и не став большим начальником в среднероссийском понимании этого слова.
Как он это делал? В чем был парадокс Гены Залогина? Вспоминаем всей Карелией.
«Я думал, что быстро прославлюсь»
• • •
Не батон и не ватрушка,
Не неведома зверушка,
У кого сто рук и ног
И развязанный пупок?
Кто во всех делах отмычка?
Кто во всех ролях затычка?
У кого из попы пена?
Кто же это братцы?
Гена!
Людмила Зотова,
актриса театра «ТМ»
• • •
Первые годы Залогин, отслуживший на флоте, играл в петрозаводском театре проходные роли. Его не видели ни режиссеры, ни зрители.

После флота и ГИТИСа — на сцену. Первая роль Геннадия Залогина в Петрозаводске. 1978 год. Фото Бориса Семенова
Надо понимать, что приехал он в город, где театры гремели, в них играли и ставили легенды. Юному, пусть даже стройному и голубоглазому, блондину не всегда находились роли.
Однокурсники по ГИТИСу — Догилева, Стоянов, Сухоруков — уже становились звездами в столицах, а он поехал в маленький городок.
«Молодой, худой, красивый, я думал, что быстро прославлюсь», — говорил Залогин про свои планы на профессию после выпуска.

Виктор Чумаков, Валерий Чебурканов, Геннадий Залогин в спектакле «Сказка о ленивых братьях». 1984 год. Фото Виктора Хаскина
Они приехали одновременно: Валерий Чебурканов — из Петербурга и Геннадий Залогин — из Москвы, жили в актерской коммунальной квартире в центре. И сразу же собрали вокруг себя неформальную тусовку. У Залогиных это были врачи (друзья супруги Наташи) плюс богема.
— Я приехал в этот город после окончания ГИТИСа в июле 1978 года. Вышел с раннего поезда — народу никого. Тишина, чистота, а внизу озеро блестит.
Ну, я на этот блеск и пошел. Добрался до набережной, свернул направо. Тогда еще наших безумных скульптур не было, был просто пляж. И я себя чувствовал, как на курорте. Брел-брел, увидел крышу среди деревьев. Так интуитивно вышел к театру драмы. Вошел через служебный вход, да так и остался на 27 лет.
Вся моя жизнь связана с площадью Кирова. Между театром драмы и финским мы перебегали друг к другу на спектакли. На обсуждения, на сдачу новой постановки, сопровождаемой неизменным капустником и сабантуем. Под утро на рубль скидывались и набивались в такси по 5-6 человек, чтобы добраться до Кукковки, где нас тогда расселили от театра.
Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и развлечения в Петрозаводске»
За неимением центральных ролей, активный и энергичный Залогин сразу стал и комсомольским лидером, и отличным организатором. Сейчас бы его называли хорошим менеджером.
Высокий рост, поставленный голос, харизма и улыбка — всё это стало его визитной карточкой. О Гене быстро заговорили.
Чтобы быть заметным в театральных кругах, ему не понадобились главные роли на сцене. Он быстро получил главные роли во всем, что касалось петрозаводской культурной жизни, — просто благодаря своим личным качествам.

Встречи в Доме актера в конце 80-х были альтернативой театральным премьерам. В ресторане Всероссийского театрального общества при Доме актера проходили совместные театральные капустники, творческие вечера известных столичных артистов и экспериментальные постановки. Фото: Борис Семенов
— В Доме актера мы провели лучшие свои дни в Петрозаводске. Там всегда была картошка с селедкой и пельмени, которые нам готовили поштучно. Мы обсуждали работы друг друга, спорили, бывало, дрались, бывало, актеров выносили оттуда в «творческом состоянии». Но это была кипучая, яркая жизнь.
Именно там на знаменитых бревнах стоят автографы всех звезд российского театра, посещавших наши края. От Юрского и Меньшикова до Олейникова со Стояновым. Все там были, все пили наши настойки, заедая клюквой.
Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и развлечения в Петрозаводске»

Борис Гущин. Фото Ирины Ларионовой
Борис Гущин, писатель, театральный критик, этнограф:
— Геннадий Залогин пришел в труппу петрозаводского Русского театра драмы в 1978 году. Я помню его эпизодические персонажи во многих спектаклях. Особого интереса актер у меня не вызывал. Энергетически не действовал никак, даже если бегал, прыгал и вообще резвился на сцене. Я думал: «Ну что это за актер… Внешность самая заурядная, простая, скромная. Ему разве что каких-нибудь социальных героев играть, скажем, простых (ну, очень простых!) советских людей. К примеру, в пьесах Арбузова…» Но пьесы Арбузова прошли в театре без Залогина в главных ролях. Режиссеры не чувствовали в нем героя.
И вдруг на малой сцене молодой режиссер Геннадий Май ставит спектакль по пьесе Aллы Соколовой «Дом наполовину мой». Геннадий Залогин получил роль Вани Французова, роль, о которой до сих пор вспоминает с нежностью. Ваня-поэт, переживающий несчастную любовь; человек, жизненные обстоятельства которого не позволяют ему жить, как хочется; человек достаточно слабый, не готовый ко многим реалиям жизни. Все эти черты оказались в тот момент близкими актеру Залогину, и он блестяще сыграл эту роль, особо не перевоплощаясь, тем более, что был отличный драматургический материал.
Театральная атмосфера города на стыке восьмидесятых и девяностых была горячая. Помимо официальной сценической жизни царила богемная — ночная. Ее центром был нынешний Дом актера — тогда ресторан ВТО при Союзе театральных деятелей Карелии. Там завязывалась дружба тех, кто вскоре будет солировать в культуре и политике Карелии в ближайшие 20 лет.
Когда в 1999 году Геннадия Залогина официально назначили директором театра «Творческая мастерская», он объяснил это тем, что, даже будучи артистом, умел договариваться, добывать актерам деньги, реквизит, пробивать гастроли и выбивать артистам звания.
С первых дней существования «ТМ» Залогин работал в две смены: вечерами играл на сцене, а с утра открывал двери высоких кабинетов и собирал для театра всё недостающее. Даже без таблички «Директор» он по сути им являлся.
— Почему я стал директором театра? Потому что у меня есть организаторские способности, широкие связи и команда, которую я глубоко уважаю. Никаким другим театром я бы уже не смог руководить, — признавался Залогин в одном из интервью.

Творческая встреча в ВТО (филиал Всероссийского театрального общества) с режиссером Петром Тодоровским. Фото Борис Семенов

Сергей Катанандов. Фото Владимира Ларионова
Сергей Катанандов, экс-глава Карелии, первый мэр Петрозаводска:
— Дружба с «Творческой мастерской» очень обогатила меня и мою команду. Мы ходили на спектакли, вечерами бывали в ВТО. Я был бесконечно восхищен этими артистами, которые составляют всероссийскую славу, не только карельскую. Я восхищался Людмилой Филипповной Живых, Олегом Белонучкиным, Еленой Бычковой, для меня это были мастера. Поэтому, когда уже будучи мэром я приходил в театр, они могли запросто поговорить со мной о своих проблемах, у нас не было никакой дистанции. Дружба с театром позволяла любому из актеров сказать мне: «Серега, ты неправ».
Театр-семья
Юный Залогин был в том самом составе, который отделился от тела «Большого театра с колоннами», Музыкально-драматического театра Карелии, и ушел в свободное плавание.
Это началось в 1985 году. Они играли в фойе Национального (тогда Финского театра), читали стихи, пробовали новое. Ставили повесть Бориса Васильева «Завтра была война» везде, куда только звали — на предприятиях, в библиотеках, в конструкторских бюро. Можно сказать, что это была экспериментальная читка.
А в 1988 году по приглашению Олега Белонучкина в Карелию приезжает Иван Петров, который становится художественным руководителем труппы. Эта дата и постановка Петровым «Плахи» по Чингизу Айтматову и считается рождением театра «Творческая мастерская».

Основатели театра «Творческая мастерская»: Елена Бычкова, Олег Белонучкин, Тамара Румянцева, Геннадий Залогин, Людмила Зотова, Владимир Мойковский, Людмила Живых, Галина Москалева. Фото: Бориса Семенова
Борис Гущин:
— Именно в этом театре, на мой взгляд, у актера Залогина не было неудач. Он был занят чуть ли не во всех спектаклях репертуара. Причем мастерски овладел искусством перевоплощения. И в его героях, скажем, в Аметистове из «Зойкиной квартиры», нет даже внешне ничего общего с учителем Кулыгиным из «Трех сестер» или Долиным из водевиля «Лучше никогда, чем поздно».
Пожалуй, лучше всего Залогину удавались чеховские персонажи. Здесь было полное слияние чеховской мягкости, отсутствия морализаторства с залогинской природной добротой, постоянно окрашенной юмором.
Казалось бы, можно посмеяться над такими персонажами, как Вафля в «Дяде Ване» и Кулыгин в «Трех сестрах». Но Залогин, невзирая на комическую маску персонажей, показывал глубокий драматизм их положения, и зритель начинал сочувствовать этим героям.
Наиболее ярко Геннадий Залогин проявил себя как комический актер. Вспомним хотя бы его танец на трех ногах в спектакле «Я пошел гулять с ума». Но чеховские персонажи и Клинков из «Странных игр для взрослых детей» по Аверченко говорят о трагикомическом даровании актера. Я уже не говорю о чисто драматических ролях, хотя чаще всего они эпизодические. Скажем, майор из «Вдовьего парохода», порядочный человек в достаточно пикантной ситуации, или учитель из «Бесов», ужаснувшийся содеянной бесовщине.
- «Странные игры для взрослых детей», режиссер Андрей Тупиков. Фото из архива театра «Творческая мастерская»
- «Мой Пушкин», режиссер Елена Бычкова. Фото из архива театра «Творческая мастерская»
- «Очень простая история», режиссер Ольга Ольшанская. Фото из архива театра «Творческая мастерская»
- «Лучше никогда, чем поздно» , режиссер Андрей Тупиков. Фото из архива театра «Творческая мастерская»
Театральная жизнь Петрозаводска конца 90-х отличается свободой высказывания, экспериментом, смелыми пробами форм. Театр «Творческая мастерская» — бренд Карелии. А Геннадий Залогин — символ театральной республики. Его узнают на улицах: он со всеми дружит, громко разговаривает, ходит в длинном пальто и широкополой шляпе. Он возглавляет модный театр — зрители специально приезжают в Карелию на спектакли «ТМ». Если раньше в столице о нас говорили: «Вы из Карелии? Где живет и творит Тамара Юфа?», то теперь всё чаще вспоминается еще и «Творческая мастерская». В театре кроме старших звезд растут новые и появляются «птенцы гнезда Петрова» — актерская студия Ивана Петрова. Сегодня, 25 лет спустя, эти птенцы — средний состав «ТМ».

Режиссер и основатель театра «Творческая мастерская» Иван Петров с выпускниками своей студии. Фото: Национальный архив Республики Карелия
Чтобы понимать, в чем была революционность «Творческой мастерской», нужно вспомнить эпоху, в которую всё началось.
Конец 80-х. Вся страна еще продолжает по старинке играть советскую классику и разрешенных драматургов. А у провинциальных бунтарей, выделившихся из Музыкально-драматического и блуждающих по городу Петрозаводску в поисках смысла, уже появляется новая свободная драматургия. Они ставят только что написанное, то, что рвет шаблоны и не показывается в театрах страны. Для провинциального театра — прорыв. Играть то, о чем говорят на кухнях, а не то, что проверено советской школьной программой.
Это был живой бродячий театр, работающий в жанре «Сегодня в газете, завтра в куплете». «ТМ» реагировал на то, что происходило в стране. Смена политического вектора, свобода слова, накопившееся и невысказанное — всё ушло на сцену. Пусть даже пока не свою — ведь они играли где придется.
Но зрители приняли это взахлеб, как первую любовь. Смотрели первые постановки и не верили своим глазам: «А что, в театре так можно?»
В айтматовской «Плахе» выражался весь нервный срыв, всё, что не говорилось десятилетиями. Театр стал рупором, который кричал правду, а не говорил ее эзоповым языком. И такой театр мгновенно стал легендой еще до того, как получил свое здание, свой знаменитый подвальчик на Кирова, 12.

Фото из спектакля «Плаха». 1988 год. Начало театра «Творческая мастерская». Фото: Национальный архив Республики Карелия / Василий Петухов

Писатель, журналист Александр Фукс. Фото: Аля Грач
Геннадия Залогина как символ Карелии представляет Александр Фукс, писатель, театровед:
— Для меня Залогин — это воплощение широты взглядов, открытого эксперимента, открытой формы, доброжелательности, и желания творить. В моем восприятии это в нем было самое главное.
Пробуй, экспериментируй, ставь — таков был негласный фирменный стиль директора Залогина. Плюс было ощущение какой-то семьи, он вокруг себя объединял творческую жизнь, всех, кто работал в «Творческой мастерской», у него не было недоброжелателей. Как он умел так построить отношения, что всем было приятно с ним и работать, и общаться?
Такой вариант идеального директора театра. С ним всем было хорошо. Всем поколениям. И при этом шел процесс творчества, поиска, жизни.
Вообще, когда узнаешь, кто был сокурсником Залогина, лучше понимаешь, какая классная актерская школа у него была. (ГИТИС, курс профессора Остальского). Это же и Виктор Сухоруков, и Юрий Стоянов, и Татьяна Догилева. Залогин был не менее талантлив как артист, но только выбрал Петрозаводск, а не столицу.
Я не люблю, когда говорят, что театр — это храм. Театр — это не просто храм. Хочешь — храм, а хочешь — балаган, а хочешь — вертеп. Нужно оставлять место для эксперимента, место для баловства. Бывает площадной театр, бывает академический — разный. Лишь бы это было качественно. А при Залогине в театре был и глубокий серьезный «Вдовий пароход», и самые невероятные шутки-трюки Андрея Тупикова, и постмодернистский «Неспектакль» Липовецкого. И всё шло в репертуаре.
Чемодан денег
Сейчас это называют чужеродным словом фандрайзинг. Умение привлекать деньги в культуру выделили в отдельную специализацию, этому учат, придают сакральность знания, продают марафоны в инстаграме. Собирать деньги нынче почетно и нужно.

Залогин — директор театра. Фото: Виталий Голубев
А вот во времена зачинания «Творческой мастерской» просить деньги было стыдно. Особенно самим людям культуры.
Есть высокое искусство, пафос и звонкое слово на сцене, а есть низменная жалкая роль — ходить по спонсорам. Этого стеснялись, считали унизительным и неправильным. Ведь учились системе Станиславского и Михаила Чехова, а не в бизнес-школах.
Но у Залогина не было по поводу денег никаких предубеждений. Он искал их как ищут сокровища. Легко, в продолжение дружбы. И многие предприниматели тогда говорили: «Гена не ходил по городу с протянутой рукой. Он так рассказывал о театре, что ему хотелось помочь и поддержать».
Андрей Мазуровский, главный редактор телеканала «Ника плюс»:
— Гена руководил театром. А в культуре тогда денег не было. И он просил у всего города. Но Гена умел просить деньги не унижаясь. Он это делал красиво. А взамен давал нечто гораздо большее, чем деньги. Дружил, участвовал в записи рекламы, в художественных программах. И у нас, к счастью, все сохранилось в архивах. А какие артисты поздравления нам делали, это ж целая постановка! Мы бывали на всех премьерах, мы посещали капустники, мы дружили коллективами. Ведь «ТМ» и «Ника» практически ровесники. У нас не было такого: я богатый, а он талантливый. У нас было настоящее теплое, душевное партнерство. И это всё из-за Гены. Он был своим парнем. Ему нельзя было не помочь.
Потом, когда Гена переехал в Москву, он мне всегда доставал контрамарки в любой театр. Однажды он сделал мне билеты в «Современник». И там уже свет выключили, какой-то мужик подсел. В каждом театре есть места, которые не продаются. Потом закончился спектакль, смотрю, это Марк Захаров.
История денег в постсоветской России — это отдельная приключенческая глава. Но история денег в культуре еще более невероятна. Страна переходила от советской плановой экономики в новые дикие денежные отношения, двигалась к якобы свободному рынку. И был такой этап, когда не только в бизнесе появились чемоданы случайных денег. В культуру они тоже пришли в пакетах, в сумках, в папках — как дали новые спонсоры-предприниматели, так они до театра и дошли.
Те, кто не боялся брать и вплетать их в бухгалтерию культурного учреждения, могли устоять, выплыть, вписаться в новую экономику.
Истории про то, как Гена договаривался со спонсорами на поддержку новой постановки, очередной премии или фестиваля фееричны.

Евгений Балалаев, директор-распорядитель «Творческой мастерской» с 1995 по 2008 год. Лауреат премии «Онежская маска» — за преданность театру. Фото Ирины Ларионовой
Евгений Балалаев, друг и коллега Залогина:
— У Гены был очень хитрый прием по сбору денег. Если он пытался завлечь в сети нового спонсора или партнера, у него на столе всегда появлялось штатное расписание. Он угощал гостя чаем или кофе, говорил о культуре, а потом как бы невзначай брал в руки ведомость с зарплатами и говорил: «Вот смотрите, сколько получает актер» — и делал долгую мхатовскую паузу. И всё — клиент готов.
Он умел обойти всех и у всех попросить.
Помню первые наши гастроли в Германию, мы летели из Питера во Франкфурт. Надо было найти денег на дорогу. Гена с кем-то договорился, и я поехал за деньгами. Мне просто дают огромную пачку денег. Без расписок, без всего. Я на себе почувствовал устойчивое выражение «Деньги карман жгут». Пока довез их до театра, все штаны прожег.
Вот такой был Гена. Не каждый провинциальный театр мог себе позволить десятидневные гастроли в Москве и в Петербурге. А Гена добывал деньги, чтобы мы могли показать себя в столицах.
Почему он это делал? Потому что верил, что мы театр не провинциальный, а высокого столичного уровня. И показывал нас в больших городах. Показывал своим знаменитым столичным друзьям. К нам на спектакли приходили его однокурсники по ГИТИСу. В зале можно было увидеть Виталия Вульфа, Петра Фоменко, Илзе Лиепа. Гена гордился своим театром.
- Ресторатор Вячеслав Ли, балерина Илзе Лиепа, Геннадий Залогин. Фото из личного архива Аси Залогиной
- Друг, однокурсник, народный артист России Виктор Сухоруков. Фото из личного архива Аси Залогиной
- Народный артист России, руководитель театра Et Cetera Александр Калягин c Асей и Геннадием Залогиными. Фото из личного архива Аси Залогиной
Геннадий Залогин де-факто и де-юре был директором «Творческой мастерской» с 1988 года по 2006 год. За этот стремительный и полный событий период он вырос в настоящего универсального театрального лидера, умеющего утром обойти весь город, раздать контрамарки, обсудить судьбы культуры и искусства, собрать чемодан денег на гастроли, отыграть вечером спектакль, а ночью пить в Доме актера, прокладывая новые бизнес и творчески связи.
- Геннадий Залогин, Наталья Жилина, Наталья Лукина, ресторан «Кивач» 2000-е. Фото из личного архива Натальи Жилиной
- Александр Фукс, Наталья Жилина, Гена и Наташа Залогины. Фото из личного архива Натальи Жилиной
Наталья Жилина, управляющий кафе-баром «Кивач» в начале 2000-х:
— Для меня Залогин был из другой жизни. Он был такой какой-то столичный, с другим лицом, с другими глазами, он шел по проспекту красивый, не провинциальный, залюбуешься.
Однажды Залогин привел в «Кивач» какого-то лысого мужчину. И говорит: «Не напоите нас с Витькой кофе?» Мы стали делать кофе, а я замечаю, что на кухне нездоровый ажиотаж. Я не пойму, в чем дело. Спрашиваю у официантов, что происходит. А они мне: «Вы что, это же Брат и Брат-2». А я беременная, вечно в делах, кино не смотрю, никого не знаю. Оказалось, это был Виктор Сухоруков, звезда всероссийского масштаба. Они учились с Геной на одном курсе. И Виктор приезжал к Гене в Карелию каждое лето собирать грибы. 17 лет подряд.
Благодаря связям Залогина, его дружбе с российскими артистами первой величины в Петрозаводск зачастили звезды театра и кино. С ними можно было не только посмотреть спектакль, но и встретиться вечером в Доме актера. Менеджер Залогин договаривался, чтобы у звезды была и ночная программа. Это нужно было для молодых артистов, для внутреннего театрального тимбилдинга. Все знали всех, все понимали престиж профессии, все учились у великих и могли с ними запросто поговорить за театр.
Про меня говорят, что я в Петрозаводске был мафиози. Театральным мафиози. Да мы все были мафией. Мы — театральные старички — все трудоголики. Мы могли выпить и закусить прямо в театре после премьеры, но мы и вкалывали за копейки. А в театре иначе и нельзя. Было приятно, когда в Москве я пошел в какой-то ночной клуб на концерт карельской группы «Револьвер» и Макс Кошелев представил меня молодежи как карельского мафиози.
Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и развлечения в Петрозаводске»

Однокурсники по ГИТИСу в Петрозаводске. Виктор Сухоруков целует Залогина в голову. Фото из архива Евгения Балалаева
Сегодня в культуре выделено целое направление «арт-менеджмент» — на управленца в культуре учат, отправляют на стажировки, шлют в резиденции, прокачивают навыки в Сколково. Последние лет десять много говорят о театральном лидерстве, о том, что его не хватает. Театру нужны кадры не из других сфер, в стиле — голос громкий, командовать могу, а тонкие, чуткие, разбирающихся в искусстве, но умеющие считать деньги, заключать договоры и составлять графики гастролей.
У Залогина этот навык был встроен изначально. Он был лидером со школы, прокачал эту суперспособность в армии и в ГИТИСе, а в театре это стал испытывать на живых людях. И это сработало. Он оказался отличным дипломатом с хорошим навыком культурного общения, что, как оказалось, было очень нужно бизнесу 90-х. Там появились шальные деньги, которые предприниматели легко отдавали в культурные руки взамен на культурную беседу.
Оказалось, что внезапно разбогатевшему новому человеку очень не хватало интеграции в культурную среду. И Залогин, почувствовав это, соединил рукопожатием голодный театр и сытую сферу местного бизнеса.
Благодаря этому у «Творческой мастерской» были гастроли. В любом городе. Не только страны, но и мира.
Благодаря этому в Петрозаводск приезжали театральные звезды первой величины.
Ведь у Залогина было не только обаяние, знакомства, дружба с великими, но и чемодан денег, который он умело инвестировал в спектакли и яркие творческие проекты.

Геннадий Залогин. Директор. Учитель. Меценат. Фото: Виталий Голубев
Но, пожалуй, щедрее всего Залогин вкладывал в людей. Помните времена, когда в стране еще только начиналась сериальная лихорадка, и в Петрозаводске шутили, что как ни включишь телевизор, там то Чебурканов, то Залогин, то Бычкова.
А ведь именно Геннадий Залогин заставил многих своих коллег сделать хорошие фото для портфолио актерских агентств и проложил им дорогу на федеральные каналы.
Профессиональных и крепких артистов из хорошего театра тогда «с руками и ногами» начали вызывать на съемки в Москву и Петербург. На старте эпохи новых русских сериалов хороший артист с классической актерской школой стал ходовым товаром.
Дружить красиво
• • •
Отуманят сердце сальности,
Переменят годы ход.
И померкнут все реальности,
Если Гена подойдет!
Подойдет любимый Геночка,
Руку кинет на коленочку,
Сразу мысли все вразброд,
Если Гена подойдет.
Жизнь лишь жизнью проверяется,
В ней нам «быть или не быть».
Если Гена улыбается,
Солнцу незачем всходить.
Пусть любые перестройки надвигаются,
Пропадут пусть и консервы и пельмени.
Если Генка даже к ночи улыбается,
Дамы сразу приготовили колени.
Людмила Зотова,
актриса «ТМ»
• • •
Умение дружить. Это качество отмечали все. Дружба распространялась на театр, театр жил дружбой. Неслучайно на наш вопрос, как директор Залогин гасил конфликты в театре, артист Владимир Мойковский не смог с ходу ответить.
А не было конфликтов, когда Гена был директором. У него к каждому был свой фирменный стиль или прием. Обнимет, спросит, как дела, погладит. В кабинет отведет, чаю или чего покрепче нальет — и нет конфликта больше.

Татьяна Темнышева. Фото ИА «Республика»/ Борис Касьянов
Татьяна Темнышева, друг семьи:
— Я не ожидала, что нам судьба подарит такую встречу. Мы подружились и стали близкими, семьями. Наши дети росли вместе. Они ввели нас в свой круг. Наташа, жена Гены, в медицинскую элиту, он — в театральную. Гена цементировал нас всех.
Конечно, Генка умел дружить, умел поддерживать, с ним связаны десятки историй, к сожалению, непечатных.
Гена — это праздник, это счастье. Ему было позволительно все. Гена — это большое сердце.
Его отъезд и столь ранний уход из жизни — настоящая потеря не только для всех нас, но и для культуры Карелии.
Мне вспоминается одна история из их семейного фольклора, как Залогин где-то гулял, пришел домой на бровях, Наташа уже спала. Только услышала, как муж гремит кастрюлями. И кричит оттуда: «Спасибо за ужин».
Странно, ужин ведь не готовила. Подумала и заснула.
Наутро просыпается, а барин уже сидит в халате, пьет кофе из красивой чашки. Наташа зашла на кухню, а там кастрюля с собачьей едой наполовину пустая.
— Зачем ты покормил Гретту?
Долго молчал Гена. Потом рассмеялся:
— Да, вкусно ест наша собака.

Александр Темнышев и Геннадий Залогин в Доме актера. 1980-е. Фото из архива семьи Темнышевых
Была у Залогина одна особенность, которой восхищались многие, но никто не мог раскрыть секрета. После пяти минут разговора человек был уверен, что Гена — его лучший друг. Даже если общались впервые.
А секрет был очень простой. Гостеприимство. «Проходи, раздевайся, ложись» — неизменное приветствие директора Залогина для любого, входящего в кабинет. Каждый спонсор, дававший деньги театру, считал Залогина своим другом. Каждый журналист, написавший рецензию, полагал, что между директором театра и редакцией большая дружба. «Опять фигню написала, Ермолина. Молодец, пиши и дальше. Не важно, что, только пиши. Не игнорируй наш театр».
Он никогда не ругался по поводу разносных рецензий в прессе. Он звонил автору похвалить за то, что спектакль разнесли. И критика паслась в кабинете у Залогина, гордясь дружбой и доступом к первому лицу.

Народная артистка Карелии Елена Бычкова. Фото: ИА «Республика» / Михаил Никитин
Елена Бычкова, актриса театра «Творческая мастерская», народная артистка Карелии, заслуженная артистка России:
— Один раз только его увидев и поговорив с ним, уже никогда не забудешь эти прозрачные синие глаза, эту лексику. Кстати, они с моим мужем когда-то взяли надо мной шефство и объяснили смысл некоторых матов и фраз. Я их не понимала. «Видишь ли, бой в Крыму, всё в дыму — ничего не видно. Так вот, ты ж понимаешь, что там не НИ-ЧЕ-ГО».
Это единственный человек, который ладил со всеми, его любили и враги, и друзья. С ним нельзя было поссориться. Пятистопный ямб, пауза. И потом — ты права.
И еще его умение всегда быть рядом, когда тебе плохо, причем даже если ты не просишь.
У Залогиных был свой ближний круг друзей. Семьями. Интимный. С байками, матами, помощью, слезами.
Был круг друзей общетеатральный. В театре была атмосфера семьи, дома, тепла, уюта.
Но был и большой городской круг дружбы. Здесь уже было достаточно узнаваемости в лицо. Все, кто знали Залогина, а его знали все, останавливались на улице, чтобы перекинуться с ним парой фраз, услышать про новый спектакль, посмеяться над анекдотом или театральной байкой — и это было актом дружбы. Если ты здороваешься и запросто говоришь на улице с директором театра, если он доверяет тебе свою эксклюзивную лексику, значит, ты ему друг.
И тут непафосно и честно сказать, что Залогин дружил красиво. И дружил он со всем городом.
— Да, Петрозаводск — не Москва. Там — индустрия развлечений, здесь — роскошь человеческого общения. Всё маленькое, всё родное. Неслучайно я никогда не хотел иметь машину. Здесь это смысла не имеет. От своего дома на Первомайке до театра на Кирова я доходил за полчаса. Я люблю ходить пешком. Пока идешь, всех встретишь, все новости узнаешь, всех на спектакль пригласишь. Лучший пиар — это когда своим лицом светишь и олицетворяешь собою театр. Конечно, в связи с этим вспоминаются и неприятные истории. Я однажды возвращался домой ночью, переходил железную дорогу, увидел идущий вдали поезд, стал на соседнее полотно и жду, когда пройдет состав. И вдруг издали слышу слабый свисток. Оборачиваюсь, а у будочки стоит бабушка-смотрительница, вся зеленая и дует что есть мочи в свисток. Навстречу идущему поезду мчался другой состав. По той ветке, на которой я стоял, ни о чем не подозревая. Я буквально за пару секунд успел сойти с рельс. Так бабушка спасла мне жизнь. А я чуть не стал Анной Карениной местного розлива.
Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и развлечения в Петрозаводске»
Натура уходящая
• • •
Ты, Ген, натура уходящая
И крокодила настоящая.
И пустота внутри щемящая,
Да и строка едва шуршащая.
До свиданья, друг мой, до свиданья!
Счастлив будь, душой не егози.
Главное рассмотришь с расстоянья
Главное — не видится вблизи.
Людмила Зотова,
на отъезд Залогина в Москву
• • •
Геннадий Борисович Залогин перестал быть директором театра «Творческая мастерская» в 2006 году. Постоянная борьба за выживание утомила его. Он решил переехать в Москву.
Наталья Мешкова, журналист
— Мы с Залогиным часто встречались на планерках в Минкульте. Ему там все время ставили на вид, что он письменно не отвечает на их запросы. Например, как театр борется с наркоманией. Он говорил: «Приносят очередную бумагу, я гляну одним глазом и в мусорное ведро бросаю. У нас и компьютера нет».
Незадолго до его отъезда в Москву встретились на Ленина, поговорили — последний раз. У него такая тоска была в глазах… »

Последние фотографии в должности директора родного театра. Фото: Юлия Утышева
Последние месяцы Залогина в Петрозаводске были горькими. Он не находил общего языка с Министерством культуры, которое демонстративно не поддерживало «Творческую мастерскую», аргументируя тем, что театр и сам прекрасно справляется, у него всё хорошо. А есть другие, которые не умеют добывать деньги, вот их надо спасать.
Залогин возвращался с планерок в Минкульте потерянный и грустный. Делился обидой с журналистами, с коллегами по театру. О том, что хочет уехать, никому не говорил. Может и сам не думал об этом.
— Вообще не все в Карелии адекватно отнеслись к моему резкому уезду. Понятно, с Минкультом мы расстались не в лучших чувствах. Я не смог больше терпеть ущемления «Творческой мастерской». Но чиновники — это одно. У них профессия такая — деньги зажимать. А вот простые люди порой удивляют, при встрече всегда стараются не обо мне разузнать, а все про себя рассказать, да еще с такой интонацией: «А у нас-то хорошо». Знаю я это хорошо, когда от зарплаты до зарплаты не знаешь, как лучше дотянуть, хлебом или селедкой. В Москве, конечно, я от этой проблемы избавился.
Да, Петрозаводск для меня всегда будет любимым городом. Я всегда буду охотно приезжать сюда, гостить у друзей, встречаться с труппой «Творческой мастерской».
Но жизнь не стоит на месте. Я принял решение жить в Москве. И Москва меня приняла. Просто надо все делать вовремя. В этом городе я состоялся. Надеюсь, состоюсь и в столице нашей родины.
Из интервью Наталье Севец-Ермолиной, октябрь 2007 года, журнал «Ваш досуг и развлечения в Петрозаводске»
Сергей Катанандов, экс-руководитель города и республики
— Гена стал директором в очень тяжелое время. Мы старались помогать театру, всегда были на связи. Но в это время в стране начались такие проблемы, что людям культуры и не снилось. Мы тянули свой воз, он тянул свой — и мы к этому привыкли. Мы видели, что человек управляется, и пропустили момент, когда он больше не смог тянуть. А человек он был с характером. Мы его все уговаривали остаться. Но и понимали, почему он уходит. Поначалу казалось, что он уехал в никуда, но я увидел, что он к Калягину пошел работать — и успокоился. Мы все переживали за него.
Залогин — это настоящий бренд Карелии, гордость республики, ее высота в культуре. И театр «Творческая мастерская» — это команда романтиков, идеалистов, которые поднимают культуру Карелии на высокую всероссийскую планку.

Геннадий Залогин с дочкой Асей. Одна из последних московских фотографий. Фото из семейного архива Залогиных
Москва в жизни Залогина уложилась в короткие три года.
Это время он очень скучал по своим. Перебраться из театра-семьи в большой московский административный коллектив — это как после развода переехать из большого шумного дома с любимыми детьми в гостиничный номер, где никто не достает, всё спокойно и есть большой телевизор.
Жена Залогина Наташа вспоминает, что когда Гене звонил очередной карельский гость, транзитом пересекающий Москву, у него не было дела важнее. «Мы готовили обед из смены блюд, он сдвигал планы. И встречал гостя на вокзале сам. Если гость куда-то дальше ехал-летел, Генка провожал его до трапа. Если гость был в Москве долго, то ему вручался пакет контрамарок в любые театры на выбор. Это был комплекс услуг «Культурная Москва от Залогина. Под ключ». Все, с кем не успел договорить, додружить, досмеяться в Карелии, довершили это в Москве. Кто успел за эти три года».
«Молчи, Генка умер»
Геннадий Залогин проработал административным директором в театре Александра Калягина Et Cetera c 2006 по 2009 год.
Как сказал Юрий Стоянов на похоронах Залогина в августе 2009-го: «Первое, что сделал Генка, переехав в Москву, это собрал всех нас» (курс ГИТИС — прим. ред.).
Елена Бычкова, заслуженная артистка России, народная артистка Карелии:
— С того момента, как Генка переехал, все обязаны были позвонить ему, если оказывались в Москве.
И вот, собираясь в Египет, я звоню Залогину, мы назначаем встречу и едем к нему вместе с моей московской подругой. Он нам открывает двери, и я помню нашу реакцию. Мы сделали шаг назад.
Это стоял не он. Это стояло воспоминание о Генке.
Он провожал нас в аэропорт, строил планы. И вот я в Хургаде последний день сижу у бассейна, наслаждаюсь. Вдруг звонок, смотрю, Русанова.
Я ей: «Ирка, я в Хургаде».
Она мне: «Молчи, Генка умер».

Геннадий Залогин. Фото из архива театра «Творческая мастерская»
Известие о смерти Залогина в Москве подкосило нашу театральную богему. Будто ушла целая эпоха. Эра свободы, здоровых семейных взаимоотношений в театре, правильной коллаборации культуры и бизнеса, локального, но не провинциального просвещения. Ушел Залогин — и с ним его открытость, его умение пригласить всех в театр, чтобы его оценить, похвалить или поругать. Быть в театре, чувствовать, сопереживать.
То, что это случилось внезапно, ударило под дых. Никто не знал, что у Залогина был инсульт, из которого он выкарабкивался. Что Залогин только физический ушел внезапно, а на самом деле он загодя приезжал в Петрозаводск, очень худой, очень печальный — попрощаться. Со всеми созвонился, со всеми поговорил, обнял, долго смотрел в глаза. И только нескольким людям в театре сказал, что приехал в последний раз.
Наталья Мирошник, заслуженная артистка Карелии:
— За годы, которые мы живем без Геннадия Борисовича, многие воспоминания стираются, но остается тот день, который помнишь до запахов и ощущений.
Он в то время нас много возил. Еще молодых, полных сил и амбиций актеров.
Город Саратов. Жара, лето, эмоции переполняют после фееричного выступления нашего театра.
Мы заходим в гримерку. Счастливые. И нас встречает Г.Б.
А в руках у него, на столах, на стульях — повсюду плетеные корзины с клубникой.
Он так был горд и доволен нами! Веселый, красивый! Мы все обнимались.
Тогда все еще были.

Геннадий Залогин с молодыми артистами во время гастрольной поездки. Фото из архива «ТМ»
Благодарим театр «Творческая мастерская», Петрозаводский Дом актера, Снежану Слепкову, Юлию Генделеву, Яну Семенову, Владимира Мойковского — за помощь в подготовке материала.
Над проектом работали:
Мария Лукьянова, редактор проекта
Наталья Севец-Ермолина, журналист, автор текста
Елена Кузнецова, консультант проекта
Идея проекта «100 символов Карелии» — всем вместе написать книгу к столетию нашей республики. В течение года на «Республике», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут 100 репортажей о 100 символах нашего края. Итогом этой работы и станет красивый подарочный альбом «100 символов Карелии». Что это будут за символы, мы с вами решаем вместе — нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте присылать ваши идеи. Делитесь тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях — эта информация войдет в материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню рождения — напишем о ней по-настоящему интересную книгу!