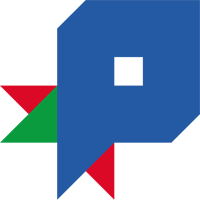Исландия русского эпоса
Весной 1860 года 28-летний исследователь Павел Рыбников, незадолго до этого сосланный в Олонецкую губернию по политическим причинам, по поручению местного начальства отправляется из Петрозаводска в Пудож — собирать статистические данные. Когда лодка с молодым чиновником подошла к Ивановским островам, на озере поднялся сильный ветер. Стихию пришлось переждать на полуострове Шуйнаволок на выходе из Петрозаводской губы, где стоял единственный домик для путников, укрывающихся от непогоды. Народу в дом набилось много, и Рыбников решил остаться на свежем воздухе.
«Я улегся на мешке около тощего костра, заварил себе чаю в кастрюле, выпил и поел из дорожного запаса и, пригревшись у огонька, незаметно уснул. Меня разбудили странные звуки: до того я много слыхал и песен, и стихов духовных, а такого напева не слыхивал. Живой, причудливый и веселый, порой он становился быстрее, порой обрывался и ладом своим напоминал что-то стародавнее, забытое нашим поколением. Долго не хотелось проснуться и вслушаться в отдельные слова песни: так радостно было оставаться во власти совершенно нового впечатления. Сквозь дрему я рассмотрел, что шагах в трех от меня сидит несколько крестьян, а поет-то седатый старик с окладистою белою бородою, быстрыми глазами и добродушным выражением в лице. Присоединившись на корточках у потухавшего огня, он оборачивался то к одному соседу, то к другому и пел свою песню, прерывая ее иногда усмешкою», — вспоминал этнограф.
Старик оказался крестьянином из Кижской волости Леонтием Богдановым. Закончив первую песню, он начал исполнять другую, в которой Рыбников узнал былину о купце Садко. Этнограф записал ее текст, а потом начал расспрашивать крестьянина, знает ли он другие песни. В ответ Богданов пригласил чиновника на Кижи, где, по его словам, былины знает каждый. Так на территории нынешней Карелии произошло открытие, повлиявшее на всю мировую культуру.

Благодаря сосланному в Петрозаводск Павлу Рыбникову Заонежье, а с ним и всю Олонецкую губернию стали называть Исландией русского эпоса. Фото: Национальная библиотека Карелии
Былина
— древнерусская, затем русская народная эпическая песня, посвященная, как правило, героическим событиям или важным эпизодам национальной истории. Термин «былина» ввели в XIX веке исследователи, сами исполнители называли свои песни старинами.
К середине XIX века фольклористы считали, что былины — утраченный жанр, рассказывает доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики ПетрГУ Ольга Захарова. В центральной России их давно не исполняли, записей было совсем немного (самый известный на тот момент сборник составил в XVIII веке на Урале молотовой мастер завода Демидовых Кирша Данилов).
«Когда вдруг оказалось в 60-е годы, что былины не только живы, но можно найти места, где они находятся в расцвете, где можно записать их лучшие художественные образцы, для просвещенной публики это было открытием, даже шоком. Недаром наша Олонецкая губерния в это время получила название «Исландия русского эпоса». Это вывело Олонецкую губернию на уровень мировой культуры. Это был удивительный факт: оказалось, что недалеко от столицы, всего в несколько сот вёрст, живет и процветает былинная традиция», — говорит кандидат филологических наук.

Ольга Захарова — потомок Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева, представителя самой известной династии заонежских сказителей. Фото: «Республика» / Любовь Козлова
Из Шуйнаволока Павел Рыбников отправляется не на Пудожский берег, а в Кижскую волость, куда его пригласил Леонтий Богданов: находящийся под надзором политический ссыльный очень рискует, игнорируя поручение начальства. Следующие две недели исследователь проведет, записывая былины, исполняемые лучшими заонежскими сказителями.
По итогам нескольких поездок в Заонежье и в нынешний Пудожский район Рыбников публикует в периодической печати тексты былин, найденных в Олонецкой губернии. Четырехтомник «Песни, собранные П.Н. Рыбниковым» издается в 1861-1867 годах. Это сенсация: выясняется, что считавшиеся утраченными как жанр древние эпические песни до сих пор исполняются, причем не за Уралом, где их записывал Кирша Данилов, а совсем недалеко от столичного Петербурга. Открытие Рыбникова получается настолько неожиданным, что ведущие ученые-фольклористы отказываются в него верить, открыто ставят под сомнение достоверность собранных им материалов.
В 1866 году, как только закончился срок ссылки, Павел Рыбников принял новое назначение, уехал чиновником в Варшаву, а позже занял пост калишского вице-губернатора. В Олонецкую губернию человек, благодаря которому ее стали называть Исландией русского эпоса, не возвращается.
Почему Исландия?
На острове, отрезанном от континента и происходивших там событий, дольше всего сохранился в живом бытовании западноевропейский эпос. В частности, именно в Исландии найдена «Старшая Эдда» и создана «Младшая Эдда» — ключевые произведения германо-скандинавской эпической традиции.

Первой былиной, которую записал Павел Рыбников в Карелии, была история новгородского купца Садко. Илья Репин, «Садко» (1876). Источник: rusmuseum.bm.digital
Родина русской фольклористики
Реакцию ученых, усомнившихся в открытии Рыбникова, можно понять. Считается, что расцвет былин пришелся на XI-XII века — в это время их создавали и исполняли в Киеве и его окрестностях. Через пару столетий центр былинной культуры переместился в Новгородскую республику. Примерно в XVI веке этот жанр эпической песни начинает угасать. Уже в XVIII веке, когда записывал былины Кирша Данилов, найти их в европейской части России было практически невозможно.
В 1871 году подтвердить или опровергнуть открытие Павла Рыбникова на месте решает авторитетный фольклорист Александр Гильфердинг.
Перед поездкой в Олонецкую губернию у ученого были большие сомнения в том, что ему удастся поговорить хотя бы с одним сказителем, которого записал Рыбников, рассказывает ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Кижи» Ирина Набокова. «Но когда Гильфердинг оказался здесь, он был потрясен обилием текстов, своеобразием, лексическим богатством, словом древней Руси, которое жило здесь», — добавляет исследователь.
Заслуга Павла Рыбникова не только в самом открытии заонежских былин, но и в том, что он был первым собирателем, обратившим внимание на исполнителей эпических песен: в его сборнике указаны не только сюжеты былин, но и имена сказителей, и места, где они были записаны. Гильфердинг подошел к делу еще обстоятельнее. Он составлял биографические справки, в своих заметках отмечал образность и стиль языка отдельных исполнителей, особое внимание уделял не только месту записи текста, но и родовым связям сказителя: важно было установить, от кого тот перенял былину.
- Перед поездкой в Олонецкую губернию Гильфердинг сомневался, что найдет здесь записанные Рыбниковым былины. Фото: музей-заповедник «Кижи»
- Результатом поездки стал трехтомник «Онежские былины». Фото: «Республика» / Любовь Козлова (издание из частной коллекции)
- В своем сборнике Гильфердинг развил подход Павла Рыбникова, уделив еще больше внимания обстоятельствам записи былин и личностям сказителей. Фото: «Республика» / Любовь Козлова (издание из частной коллекции)
Сборник песен, собранных Гильфердингом, издают в 1873 году («Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года»). Наряду со сборником Рыбникова эта книга стала основой для изучения русских былин, в том числе в плане методологии: прежде исследователи почти не уделяли внимания исполнителям эпических песен и не отмечали особенностей их исполнения у конкретных сказителей. «На материале, записанном в Карелии, создавалась, в сущности, вся русская наука о фольклоре», — констатировал в XX веке известный советский ученый-фольклорист Марк Азадовский.

Трофим Григорьевич Рябинин — родоначальник всемирно известной династии сказителей. Былины в его исполнении записывали и Рыбников, и Гильфердинг. Фото: музей-заповедник «Кижи»
Былины и руны
В Олонецкой губернии найдены все известные на сегодня былинные сюжеты (всего их выделяют около ста), говорит Ольга Захарова. Позднее исследователи записывали отдельные былины на Урале, в Сибири, в Поморье, в Поволжье, на Печоре, но среди известных там историй нет ни одной, которую не исполняли бы сказители в Заонежье или на Пудожском берегу Онежского озера.
Есть несколько теорий, объясняющих, почему русские былины полнее всего сохранились именно на территории современной Карелии. Исследователи отмечали, что этому способствовала суровая природа наших краев: долгие зимние вечера нужно было чем-то занимать — почему бы не былинами? Другие объяснения отсылают к склонности жителей Заонежья к поэзии и их более свободному положению относительно крестьян, живших в центральной России.
Один из самых популярных ответов на этот вопрос связан с тем, что в Олонецком краю веками жили рядом два народа с разными культурами — русские и карелы. У тех и других был свой эпос: у русских былины, у карелов — руны. Судя по всему, в условиях пограничья эпос для обоих народов стал важным элементом идентичности, помогавшим не забывать о своих исторических корнях (интересно, что открытие карельского и русского эпоса в Карелии происходит почти одновременно — Лённрот начал собирать руны, легшие в основу «Калевалы», всего на 30 лет раньше Рыбникова).

Братья Трихво и Поавила Яманен показывают, как раньше пели руны. Ухта, 1894. Фото: Инто Конрад Инха / из фондов Национального музея Карелии
«Былины — действительно уникальный жанр, который в себе сохранил основы менталитета крестьянства, его идеалы, его характер. Как раз русские былины, героический эпос, очень емко собрали в себе образы героев, которые являлись нравственными идеалами для крестьян. Те нравственные идеалы, которые были характерны для средневековой Руси и запечатлелись в эпосе, остались идеалами для северного крестьянина», — объясняет Ирина Набокова, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Кижи», добавляя, что сами заонежские сказители воспринимали былинные сюжеты как пересказ реальных событий древности, а богатырей считали своими прародителями.
География
На территории нынешней Карелии исследователи записывали былины в Заонежье, на Пудожском берегу, в районе Белого моря. В Заонежье центрами былинной традиции считались Кижская волость (Сенная Губа, Кижи), Космозерская волость (Космозеро, Яндомозеро), Шуньга и Толвуя. Конкретные места, где записывался русский эпос, отмечены также на подготовленной в ПетрГУ интерактивной карте «Этнография и фольклор Олонецкой и Архангельской губерний».
Идеалы
Во многом сохранение эпической традиции было связано с особенностями местной экономики: значительная часть жителей Олонецкой губернии и в XIX, и в XX веке занималась отхожими промыслами, ловила рыбу, заготавливала лес. Все эти виды заработка неплохо уживались с исполнением песен («Плетут сеть стежок за стежком — и былины так же рассказывают: слово цепляется за слово», — приводит пример Ольга Захарова).
До XVIII века Карелия жила интенсивной жизнью, обращает внимание Ирина Набокова: олонецкие земли были связаны северными реками — торговыми магистралями — с главными культурными, административными и торговыми центрами Древней Руси, имели сообщение с Западом. Но с начала XVIII века, в связи с завоеванием Прибалтийского края, Север оказался в стороне от главной арены исторической жизни. Эта изоляция повлияла на сохранность эпического наследия именно на Русском Севере. Эпос здесь не законсервировался, происходило его самобытное развитие. На это оказывала влияние близость героического содержания эпических песен к характеру северного крестьянина, считает Набокова. Опасные промыслы среди суровой природы, тяжелая крестьянская работа, свобода от крепостного гнета выработали нравственный облик северянина, идеалы которого нашли отражение в русском героическом эпосе. В XIX веке в семьях, сохранявших традиционный уклад, нравственные устои и веру, сохранялись и древние былины.

Василий Щеголёнок из деревни Боярщина, считающийся одним из лучших заонежских сказителей, был знаком со Львом Толстым, который использовал его истории в своем творчестве. Портрет кисти Василия Поленова. Фото: macdougallauction.com
Старины в Заонежье исполняли во время досуга, на бесёдах, за работой (вязание сети и другие монотонные действия), на промыслах, в семье, во время дальних поездок на лодке. В пост петь их не полагалось: в это время исполняли духовные стихи. Сказитель должен был обладать хорошим голосом и отличной памятью, говорит Ирина Набокова. Память была очень важна для исполнителя, в голове приходилось держать сюжеты с многочисленными подробностями. У мастеров эпического слова каждое новое исполнение было уникальным, отличалось от предыдущего иногда только деталями, но порой и элементами сюжета.

Ирина Набокова
Былины как символ Карелии представляет ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Кижи» Ирина Набокова:
«Былина, безусловно, может стать символом Карелии, потому что впервые в живом бытовании русский героический эпос был записан именно в Карелии, именно в Заонежье, в Кижской волости. 1860 год — это момент открытия действительно планетарного масштаба. Обнаруживается, что эпос не умер, как предполагали. Он живой, вот он: и простой крестьянин в поле, подростки, которые перевозят Рыбникова с острова на материк, и баба, которая кормит ребенка — они все «знают старинки сказывать». Они верят в то, что жили богатыри на Руси, «жили давно, да все примерли». Рассказывают о них, как о собственных предках. Причем у каждой возрастной и гендерной категории есть свои любимые сюжеты былин: есть бабьи былины, например, старина про Добрыню и Маринку, есть крестьянские старины о мужике-пахаре («Вольга и Микула»), а есть героические, которые по праздникам, на торжествах сказываются. Благодаря востребованности былин нравственные идеалы, которые были характерны для средневековой Руси и запечатлелись в эпосе, остались во многом идеалами для северного крестьянина».
Воспроизводить усвоенный сюжет сказителю помогали былинные формулы — устойчивые эпитеты или описания какого-то действия. Например, девица в былине почти всегда будет красная, молодец — добрый. Другие формулы описывали целые сюжетные отрывки (седлание коня, пир у князя, путешествие).
Так, долгий путь у Трофима Рябинина нередко описывается формулой:
«Еще день-то за день будто дождь дожжит
А неделя за неделю как река бежит
То он в день едет по красному по солнышку
А он в ночь едет по светлому по месяцу».
Ирина Набокова считает, что лучшие заонежские сказители были не просто исполнителями, а настоящими поэтами. «Текст не заучивался, они каждый раз, исполняя былину, создавали текст заново. Вы представляете, насколько было велико поэтическое ремесло сказителей, если они могли сесть, подумать, собраться и пропеть былину, составить поэтический текст длиною, например, в 180 строк, в 300 строк! Это уникальное мастерство, это чуткость к слову, владение словом, которое просто потрясает», — рассказывает Ольга Захарова.
Еще одно нужное сказителю качество — то, что сами заонежане называли «тороватость», продолжает Ирина Набокова. Это что-то близкое к предприимчивости, умению держаться на плаву даже в тяжелых условиях. Исполнитель былин должен был иметь живой ум, хорошую память, желание сказывать старины и быть в центре внимания, но в то же время уметь многое «по крестьянскому делу», чтобы прокормить большую семью (сказительство не было для большинства источником дохода).

Иван Трофимович Рябинин — представитель второго поколения знаменитой династии сказителей, сын ее родоначальника. Исполнял былины не только в Петербурге и Москве, но и в нескольких европейских столицах. Фото: музей-заповедник «Кижи»
В 1894 году былину «Вольга и Микула» в исполнении Ивана Трофимовича Рябинина записывают на фонограф. Это одна из немногих сохранившихся аудиозаписей былинных сказителей, сделанных в XIX веке.
Особенно заонежане ценили тех сказителей, которые переняли былины от своих стариков, старших членов семьи: это подчеркивало, что человек не пришлый, что с землей, на которой он живет, его связывают прочные корни. Возможно, именно поэтому самые известные исполнители русского эпоса в Карелии — представители четырех поколений династии Рябининых-Андреевых.
«Эта черта: выяснять, чьих ты будешь, имеешь ли ты заонежские корни — до сих пор отличает заонежан. Ты приехал в экспедицию, общаешься с бабушками, но если у тебя есть кровное родство с этими людьми, ты тоже заонежанин, тебя будут больше уважать, тебе будут более открыты, более откровенно будут с тобой беседовать и охотнее впускать в дом и открываться душой», — подчеркивает Ирина Набокова.
Новая жизнь
Благодаря работам Рыбникова и Гильфердинга Карелией и прежде всего Заонежьем заинтересовались фольклористы. Исследователи посещали деревни, разговаривали со сказителями, записывали былины. Самих сказителей еще в шестидесятые начали возить в Петербург и Москву, затем устраивали для них туры по европейским столицам. Заонежские крестьяне встречались в крупных городах с учеными и писателями. Сказитель Василий Щеголёнок, например, в 1879 году познакомился со Львом Толстым и даже какое-то время жил в Ясной Поляне. Есть мнение, что пересказанные Щеголёнком легенды и истории писатель использовал как сюжетную основу для нескольких своих рассказов.
В XX веке былинная традиция в Заонежье постепенно угасает. Это подтверждают экспедиции фольклористов, работавшие в Карелии в двадцатые и тридцатые годы. Исследователи замечают, что былины помнят намного меньше крестьян, чем во времена Рыбникова и Гильфердинга, а молодежи они вовсе неинтересны. Старинные, досюльные, песни вытесняют простые частушки и зарождающаяся советская популярная музыка.

Петр Иванович Рябинин-Андреев (второй слева) — представитель последнего, четвертого поколения династии сказителей. В 20-е годы, когда былины в его исполнении записывали советские фольклористы, многовековая традиция старин почти угасла. Фото: музей-заповедник «Кижи».
«Участники экспедиций, к сожалению, фиксировали затухание интереса к эпической поэзии. Это было связано с техническим прогрессом, с ориентацией крестьянина на город, на городскую культуру. Борьба со старым и ветхим проникает и в умы крестьян. Старики еще помнят былинки в это время, но молодежь уже со смехом к этому относится. На бесёдах, на вечеринах звучат новые песни, жестокий романс, частушки-повертушки, пришедшие из города», — говорит Ирина Набокова.
Во время послевоенных экспедиций в Заонежье записывают «новины» — авторские эпические произведения о героях советского времени, и почти не находят былин. Последние старины исследователи записывают в Карелии в 1950-1960-е годы. После этого многовековая традиция передачи русской эпической песни от поколения к поколению окончательно прерывается.
Сегодня былины в Карелии практически никто не поет. Один из немногих современных исполнителей — заведующий сектором экспозиционного освоения традиционного хозяйства музея-заповедника «Кижи» Олег Скобелев, в прошлом участник Фольклорно-этнографического театра (ФЭТ) музея-заповедника. В 2005 году его попросили разучить зачин былины «Про Добрыню» по трехминутной записи пудожского сказителя Ивана Терентьевича Фофанова. Скобелев выучил отрывок этой былины и затем не раз исполнял его на концертах ФЭТ. С этого всё началось.
Сегодня в репертуар Олега Скобелева входят шесть былин — пять рябининских и одна фофановская. При освоении их тексты приходилось «расшифровывать», делать пригодными для исполнения: понять, как пели сами сказители, можно только по небольшим отрывкам, записанным на аудио. Тексты былин благодаря собирателям сохранились полностью, но особенности исполнения нужно восстанавливать. Сделать это непросто — поначалу собиратели совсем не обращали внимания на то, куда сказитель ставит ударения, из какого количества стихов его строфа, какие у него особенности произношения.

Один из центров русской былинной традиции — остров Кижи. Фото: «Республика» / Борис Касьянов
В своем исполнении Олег Скобелев как музейный работник опирается на то, как исполняли былины крестьяне, от которых записаны тексты. Но просто механически выучить и воспроизвести эпическую песню слово в слово невозможно.
«Всё-таки это дар какой-то, как ни крути. И сказитель решается на исполнение былины на рубеже предела возможностей памяти. Сколько бы ты ни выучил текста: ну шесть страниц, ну десять, ну двадцать — настанет этот предел. Невозможно вызубрить былину на час пения. Для ее освоения надо туда переселиться, во времена князя Владимира, душой перейти в тот богатырский мир. И уже оттуда, где тебе откроются дали былинного повествования, когда ты вдруг станешь видеть внутренним взором происходящие события, можно спеть-прожить всю эпическую песню. Поэтому редко у кого получается петь полные большие былины: надо как бы не от мира сего быть, потому что сам эпос сейчас не от мира сего», — утверждает исполнитель.
Почти повсеместное исчезновение былинной традиции Скобелев объясняет тем, что народ сам отказался от своего эпоса. Процесс деградации и исчезновения эпической традиции занял не один век. При сравнении текстов XVIII и XIX веков заметно упрощение ткани повествования, потеря яркости и подробности описаний, «ускорение» действия в былинах. К XX веку этот процесс усилился, говорит Олег Скобелев.
«Жестокие романсы, фабричные частушки и прочие жанры стали вытеснять эпос из деревенской жизни там, где он еще сохранялся. Наконец, после установления диктатуры пролетариата в стране крестьянство было списано со страниц истории «светлого будущего» как неподходящий по своим качествам для коммунизма общественный класс. Впрочем, и при капитализме крестьянская жизнь невозможна так же. Крестьянство может жить только в любви к земле, доброте и трудолюбии и только по божьим заповедям. А многопоколенным автором, исполнителем и слушателем эпических песен был как раз русский крестьянин. С его исчезновением из жизни ушел и эпос. После войны, когда Сталин умер, был последний шанс, развилка дорог такая: вернуться к своей родной, еще живой тогда культуре или пойти на Запад. И духовные лидеры шестидесятых повернули молодежь на Запад. Это был последний шанс вернуться к родному, но им не воспользовались» — считает сотрудник музея и признается:
— Жизнь исполнителя былин в современном обществе очень сложна. Часто встречаешь равнодушие, зависть, ревность, иногда полное непонимание и отрицание. Хорошо, когда есть у слушателей внимание, любопытство и жажда познания. Самая радостная и благодарная аудитория, которая у меня была за все 15 лет, — это группа детишек, больных ДЦП. Я робел для них петь, а они ответили мне чистой радостью и сияющими глазами[…] Но у нас огромная страна, в том числе она и великая эпическая. Эпическая традиция до сих пор жива у некоторых наших народов: поют богатырский якутский эпос, жив эпос в Башкирии и Хакасии, живая традиция сохраняется в русском селе Усть-Цильма Коми республики».

В 30-е годы советская власть проводит в Карелии конференции и семинары сказителей, на которых пытается объяснить последним исполнителям былин, о чем те должны петь (Ленин, колхозы, новая жизнь). Фото: музей-заповедник «Кижи»
Исполнить былину Олега Скобелева просят не слишком часто. В основном приглашают в школы — провести урок и спеть небольшой отрывок. Школьники принимают по-разному: один класс может встретить непривычное пение смехом, другой попросит продолжить на перемене. Исполнить полную былину на 25-50 минут получается очень редко — разве что в университете для студентов или в музее-институте семьи Рерихов в Петербурге.
«Если ты бюрократ, технократ, с бумагами возишься, с продажами, айфонами, отлучён от земли, живёшь только сегодняшним днём, ты просто не сможешь петь эпос. И, скорее всего, слушать эпос тоже. Это несовместимые вещи», — уверен исполнитель былин. По его мнению проблема в том, что вслед за сказителем в былинный мир должны переместиться и слушатели, иначе их оттолкнёт долгое монотонное пение.
«Если ты туда переселишься, ты уже поешь оттуда и слушаешь, будучи там. И сам видишь богатырский мир. Когда ты уже душой там, ты видишь эти словесные формулы, понимаешь, как и где их употреблять. Былину неправильно переснимать как ксерокопию. Кончится копия, заученная по подлинной записи, — и ты дальше сам поешь. Всё-таки мне хочется и видится, что у былин снова будет живое бытование. Горящие детские глаза — вот что вселяет эту надежду», — говорит Олег Скобелев.
https://eb.utuoy/zKTHAOxd6z4
Над проектом работали:
Мария Лукьянова, редактор проекта
Евгений Лисаков, журналист, автор текста
Любовь Козлова, фотограф
Идея проекта «100 символов Карелии» — всем вместе написать книгу к столетию нашей республики. В течение года на «Республике», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут 100 репортажей о 100 символах нашего края. Итогом этой работы и станет красивый подарочный альбом «100 символов Карелии». Что это будут за символы, мы с вами решаем вместе — нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте присылать ваши идеи. Делитесь тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях — эта информация войдет в материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню рождения — напишем о ней по-настоящему интересную книгу!