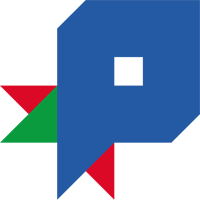THERE THERE
Я там,
где на одном из миллионов
балконов, ты сидишь, один из тысяч,
и дышишь табаком одной из сотен,
к субботе наконец освободившись.
Я там,
где ты со мной играешь в прятки,
не помня имена, но помня лица.
Я чудом оказавшийся в десятке
всех тех, кого, должно быть, единицы.
Я там,
где ты одёргиваешь шторы
и видишь пейзаж вокруг, тот самый.
И море за окном, такое море,
какое мы придумываем сами.
Я там, где джаз. А истина — в шнуровке
на кедах или в литре совиньона.
Был август, и посыпались хрущёвки
на серый цвет, простившийся с зелёным.
Но я остался там. Я — в каждом скромном
влюблённом юноше, я — в каждой божьей дочке.
Я тот ребёнок, что ты прячешь под дипломом
в большом шкафу, тебе доставшемся в рассрочку.
Я — тот, о ком забыл ты. Я — твой лучший
и твой последний шанс, я — та смешная
история друзьям на кухне душной,
которую ты плёл, присочиняя
всё новые подробности сюжета.
Потом вино мешалось с голосами.
И было лето сплошь во всём, такое лето,
какое мы придумываем сами.
И что страдать теперь,
что новым песням верить —
одно и то же всё.
Любовь не терпит прайса.
Я буду там, за выходной железной дверью.
Мы ещё можем прыгнуть в поезд.
Собирайся.
ДОЧЬ ПОДПОЛКОВНИКА
Дочь подполковника ведает, что творит,
накалывая на локон метеорит,
питаясь сухим вином, пока Немо в космосе,
протирая платком стекло блестящего шлема.
«Как мне, родная, в условиях невесомости
встать на одно колено?»
У дочери подполковника по субботам
мигрень и бессонница от гряды бесконечных дел.
«Здесь столько их, чёртовых роботов-автоботов,
и ни один меня не задел!»
«Вот вера моя, и небо ей — не предел» —
думает Дочь, и слёзы её тверды,
как, кажется, углерод дорогих молекул.
На стёклах метро:
«Астероиды в ипотеку.
Всего пять световых минут от вашей звезды»
Дочери подполковника нет нужды
искать себе дом. Нашедшему
дом — проблема.
Губам полусонным шепчется: «Немо, Немо…»
Ушам полусонным слышится:
«Эй, а ты
там встретишь меня, когда я вернусь героем?
Хоть помнишь, как выглядел? Помнишь, как улетел?»
«Вот образ мой — фюзеляж избежит пробоин.
Вот вера моя, и небо ей — не предел».
Так космос молчал. Твердел углерод в алмазе.
Любой в атмосфере делал, что он хотел.
И даже когда полгода не было связи:
«Вот вера моя, и небо ей — не предел»
«Вот вера моя, и небо ей —
Немо, Немо…»
Дочь подполковника, глядя на календарь,
протирает платком стекло блестящего шлема,
усыпанного алмазами, как алтарь.
ПН — ПТ
Он с понедельника по пятницу привык
на целый день ходить в одно и то же место.
Где что-то делят и срываются на крик,
но не имеют к разговору интереса.
Он всё прошёл на пятом курсе, двадцать лет
тому назад. Он в пиджаке. Он так неважен,
что побеги на красный свет, закрыв глаза
через проспект — не переехали бы даже.
В его квартире — тумба, перекись, турник.
Он с понедельника по пятницу привык.
Он молодец, он никогда не верил в сплетни,
он никому не делал плохо, а конкретней —
по щёки прятался в высокий воротник
и дальше шёл, не ярче, но
не бесприметней…
Он смотрит в зеркало,
а в зеркале — старик.
Едва живой.
Восьмидесятилетний.
ОБЪЯТНАЯ РОДИНА
Объятная Родина: по объятию на живого,
по пять — на мёртвого, но последнее, слава богу,
не нас касается, милый друже. Я знаю слово.
Ты знаешь несколько, но от этого только хуже.
Ныряем резвые, уклоняясь от ножевого.
Уходим рельсами.
«Проводник, убери оружие.
Мы станем трезвыми через несколько остановок».
Мы станем старше, едва ли — лучше.
Годам к семи вот как
засел за велик, упал четырежды — не разучишься.
Один раз эврика, милый друже, а дальше — лирика.
Работа смерти — строгать великих из выдающихся.
А мы хотели вершить поэзию вольной литеры,
людскую медь обращая золотом в сто карат!
Кричат: «Бездельники! Декадэнсеры! Дауншифтеры!»
Ты покупаешь билеты в Вологду, Нижний Новгород,
Владивосток или Кёнигсберг, и обратно по небу.
Как сын вернёшься домой, тихонечко сядешь рядышком.
«Гляди, объятная моя, бедная моя Родина,
гляди подольше,
ведь я живой пришёл,
мамка,
матушка».
ТАМ, ГДЕ ТАНКИ БОЛЬШЕ НЕ ВЫСТРЕЛЯТ НИКОГДА
Пятнадцатый год имеет зелёный цвет.
Кому-то с оттенком хаки, кому-то — нет.
В маленьких спаленках по ночам остаются заперты
дети с гуашью, доказывающие Альберта.
В глазах у детей — Вселенная в нужном срезе.
Там, где дуло — глагол,
стволы — у лесных деревьев.
Полторы сотни лет взрывается Бетельгейзе.
Ровно столько же мы киваем им, не поверив.
Самое время благодарить друг друга, ведь ты
и я,
как гуашь и бумага, небесполезны.
Наши дети рисуют зелёным
такие цветы,
какими потом подавятся ружей чёрные бездны.
Так пятнадцатый год оживляет нас изнутри.
На обугленном пастбище стебельком прорастает vita.
Пустоты больше нет. Вот звезда, вот её орбита
в тридцать три остывающих литеры алфавита.
Вот Москва, Вашингтон, Тбилиси, Кабул, Багдад.
Словно зная врождённую заповедь «будь готов»,
наши дети разучивают
названия городов.
ЭКЗЮПЕРИ
Научиться
не брать процент, не смотреть назад,
не пугаться трезвости и субботы.
Засыпать, не давясь ничем, и сужать вокзал
до размеров искорки вдалеке.
Господин Антуан де Сент закрывал глаза,
становясь быстрее, чем самолёты.
Стократ быстрее, чем мысль о выходе из пике.
Лететь, не видеть, как пропадает,
как обращается силуэтом
пятна родимого на затылке былая жизнь.
Как часть кавычек, как одинокая запятая —
твоя планета.
Отсюда видно, как относительны верх и низ
и как не жарок экватор, полюс не побелён,
и закат не розов.
Ещё секунду — и дальше в темень, но посмотри:
там кто-то, паром дыша, от холода колпаком
накрывает розу,
и на блокнотном листе — удав со слоном внутри.