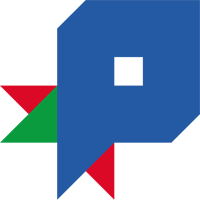[parallax-scroll id=»247834″]
Три часа подряд слушатели курсов церковнославянского языка в Александро-Невской лавре сидят как влитые. Иногда они в голос хохочут. Преподаватель, кандидат филологических наук Сергей Наумов рассказывает без конспекта, почти расслабленно. Студентов, буквально пришедших с улицы, здесь учат читать и понимать церковнославянский текст всего за пять лекций. А еще умудряются оставить им в нагрузку совершенно искреннее чувство языка как сокровища. При этом описать своих слушателей преподаватель Наумов, как ни странно, не берется:
— Я человек робкий, интроверт, преподавателем быть не собирался. Хотел сидеть и работать в библиотеке: одни книжки читать, другие писать. Но жизнь развернула всё по-своему и поставила меня на это конкретное место. Интровертом же я при этом быть не перестал и робким тоже — я особо не всматриваюсь в тех людей, которые передо мной в аудитории сидят. Боюсь, знаете ли, своим «пяленьем» доставить им неудобство. И когда они со мной на улице здороваются, я редко кого вспомню в лицо.
— Как вам удается захватывающе преподавать предмет, традиционно даже у филологов считающийся лидером среди скучнейших?
— Во-первых, мне этот предмет очень нравится и всегда нравился. Еще в школе товарищи разрисовали мою тетрадь: «Тетрадь для работ по истории болезни психбольного 11 «А» палаты 192-й психбольницы Наумова Сергея. Диагноз: славянская письменность» — я ведь все конспекты записывал славянским полууставом — и ничего, успевал за преподавателем. Мне тогда в руки попал один из начальных томов «Памятников литературы Древней Руси», где и про благодатный огонь было написано, и про многие вещи, бывшие в то время (том вышел в 1980 году) под запретом — а в рамках древнерусской литературы можно было что-то издавать.
Во-вторых, я осознаю, что такое церковнославянский язык, зачем он нужен и насколько это важно. А от этого осознания многое зависит. Можно одну и ту же землю одной и той же лопатой копать по-разному в зависимости от того, ищет ли человек клад или роет могилу. В моем случае — это клад. Поэтому и копается мне радостно.
Ну и, в-третьих, я не использую никаких образовательных технологий. Что я знаю, то и рассказываю — и этому я тоже научился у своих учителей. И хотя курс методики преподавания нам на филфаке читали несколько раз — в отношении разных дисциплин, «специалистом в области образовательных технологий как совокупности приемов, неизбежно и гарантированно приводящих к достижению заданного результата» я себя ни разу не ощущаю. Поэтому и ученикам своим ничего не гарантирую.
У обучаемого часто есть искушение попутать обучение с сеансом массажа: дескать, я тут полежу, а вы сделайте всё как надо. Справедливости ради скажу, что и у преподавателей есть соблазн аудиторию представить в виде газовой котельной: повернул краник, и всё работает само.
На деле нужно «вкалывать» и преподавателю, и ученику — тогда и будет достигнут результат.
— Зачем все-таки нужно изучать церковнославянский язык?
— Глубинная цель изучения церковнославянского языка — воцерковление. С этой целью он был создан и существует. Все остальные возможные цели подобны тому, как вирусологи изучают вирусы — без любви и привязанности, вирусы для них навсегда остаются врагами.
Если бы мы Пушкина изучали как чиновника. Он же чиновник был по должности, причем не блестящий. Но тогда мы бы с вами ничего о Пушкине не поняли. Так и с церковнославянским языком: если наша цель воцерковление, то нам все будет понятно.
А использовать церковнославянский язык не по назначению — это как ноутбуком окошко подпирать, чтоб не хлопало — зачем? При этом церковнославянский язык надо именно изучать, так как изначально он создавался как богослужебный, а не разговорно-бытовой, и с самого начала (в нашей стране — с 988 года) он был именно учебным предметом — в принципе первым и иногда единственным.
— То есть учить церковнославянский язык лучше все-таки не самостоятельно, а с преподавателем?
— В чем-то, конечно, можно разобраться и самому. Но тысячелетняя практика нам свидетельствует, что на горизонте должна замаячить фигура преподавателя. Когда Кирилл и Мефодий приехали в Моравию, они первым делом набрали учеников и учили их грамоте. А грамота была какая? Церковнославянская. Когда Владимир крестил Русь, то одновременно с открытием храмов он открывал школы, в которых также учил детей. Опять-таки церковнославянской грамоте. Как видите, преподавательской традиции церковнославянского языка уже 1000 лет. И прерывалась она только, когда язык выкинули из школьной программы в 1918 году. И до сих пор, кстати, не возвращают.
— Кажется, даже и дискуссия на эту тему затихла?
— Честно говоря, я не держу руку на пульсе этой проблемы, но у меня такое ощущение, что коллеги уже смирились с этим и решили ставить реальные задачи: не получается церковнославянский язык вернуть в школу, тогда давайте возвращать его в школЫ. Там, где мы трудимся, там он и будет. Хотя все мы понимаем, что по уму нужно церковнославянскому языку обучать не в гетто и этнокультурных резервациях, а на общегосударственном уровне. Все разговоры о том, что массово преподавать церковнославянский сегодня просто некому, мне напоминают совершенно чудесный пассаж из учебника по вождению — о зеркале заднего вида: делать его панорамным или плоским. То есть так, чтобы оно показывало всё, но искаженно. Или чтобы оно показывало как есть, но не всё. Автор предлагает выбирать самостоятельно, но при этом говорит, что для него лично лучше видеть всё, чем чего-то не видеть вообще. Вот именно так стоит рассуждать и в отношении любого школьного предмета, а не наоборот: а вдруг его будут плохо преподавать? Ну, так это проблема номер два (давайте тогда математику не будем преподавать — вдруг плохо получится?) А проблема номер раз — будут ли его вообще преподавать. Это все равно, что сказать: а вдруг у этого человека судьба неважно сложится, давайте лучше его сейчас расстреляем.
— Что бы, по вашему мнению, изменилось, если бы завтра начали преподавать церковнославянский язык в школах?
— Завтра бы ничего. Был когда-то такой президент Горбачев, и при нем был введен «полусухой» закон, за который Михаила Сергеевича пинали. А вот я видел студентами людей, которые родились до, после и во время действия этого закона, и видел отличия. То есть сразу ничего не изменится.
Если церковнославянский язык начнут преподавать в школах, то сначала нас засмеют, потом снова обвинят в клерикализации школы и дальше по плану. А позже, когда вырастет несколько поколений, мы, например, обнаружим, что люди стали умнее.
Это будут люди с элементарно большим набором лингвистических средств для формулирования и передачи собственных мыслей. Люди, у которых есть выход на огромный корпус текстов о самом главном. Другой вопрос, что помимо того, чтобы дать человеку механизм для чтения, его же надо еще и подключить к этому корпусу — показать: а теперь иди и читай вот там. И речь не только о молитвенных текстах, это и тексты житийные, и тексты поучений, и многие другие.
— Но ведь читать эти тексты можно и на русском литературном языке, не обязательно владеть церковнославянским…
— Можно и курс дифференциального и интегрального исчисления попытаться нотами записать, «но уже не то» получится, как в одном стишке говорится. Духовные тексты гораздо точнее звучат на церковнославянском языке. Да, есть жития святых в русском переводе, и они вполне себе жития, хотя временами съезжают от агиографии к биографии. А это совсем другая песня. Да, формулировки литературного языка могут быть понятнее формально, но они лишены обертонов, заложенных в церковнославянском языке. Это вот как капусту можно квасить в бочке, а можно в стеклянной банке. И то будет квашеная капуста, и это, но та, которая в бочке, все-таки совсем другая. Текст ведь это не только изложенная сумма взглядов, но еще и определенным образом изложенные взгляды — то, что называется художественным мастерством, когда форма неотделима от содержания. «В голубом тумане моря белеет одинокий парус» — это совсем не то же самое, что «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Церковная литература трудноотделима от формы, в которой она изложена, от формы, которую она когда-то приняла. Можно, конечно, выколупывать ее из этой формы, пересказывая литературным языком. Тоже вариант. Что-то, конечно, при этом останется, но будет как при переезде: вещи вроде сохранились, а дом-то уже другой.
[parallax-scroll id=»247859″]
— Мы не можем пройти мимо вопроса о богослужении на русском литературном языке, хотя этой дискуссии уже не один век…
— Сколько бы эта дискуссия ни возникала, она заканчивается всегда одним и тем же: каждый остается при своем и с новым аргументами. А зачастую еще и отношения портятся. Скажу по собственному опыту: прихожу я на канон Андрея Критского. Как у многодетного папы, выбор храмов у меня небольшой — который ближе, тот и мой. Захожу с книжечкой, открываю — сейчас батюшка будет читать, а я следить. Раз, не совпадает. Что такое? Оказывается, батюшка читает на литературном языке. Все как положено: народ стоит на коленях, полумрак в храме — от настоящего канона не отличишь. Но какой-то вместо текста канона Андрея Критского получается «текст о каноне Андрея Критского». Извлекаем, тем не менее, из ситуации позитивный опыт: батюшка читает подстрочник, а я про себя по книжке — уставной славянский текст. Это не очень легко и не всегда полезно, но лучше вынести из ситуации позитив, чем негатив. Другое дело, что теперь на канон Андрея Критского я в какой-нибудь другой храм пойду. Это был маленький пример, а теперь исторический тренд. В начале века все эти дискуссии уже возникали. И также интеллигенты в худшем смысле этого слова и часть примкнувших к ним интеллигентов в обыкновенном смысле этого слова пытались делать подвижки в сторону «русскоязычного» богослужения. В итоге все это вылилось в то, что в 20-е годы «русское», в очень сильных кавычках русское, богослужение (истинно русское богослужение — это церковнославянское богослужение) сконцентрировалось у обновленцев, то есть у «146-процентных» еретиков. Эти факты говорят сами за себя. Кроме того, если действительно задаться целью перевести богослужение на русский литературный язык, то можно просто попрощаться с русской идентичностью.
Русский человек — не полянин, не древлянин, не дрегович, ни кривич, а именно русский человек — получился с Крещением Руси, то есть с пришествием церковнославянского языка, который сразу обеспечил нас двумя стилями: обиходно-бытовым и возвышенно-церковным. Вот это и есть тот стартовый набор хромосом, с которым появился русский человек. И теперь если начать какие-то хромосомы выдергивать, то получится все что угодно, только не русский человек — например, как вариант, советский.
— И все-таки допустимы ли какие-то, пусть небольшие, компромиссы?
— Вот смотрите: есть муж, есть жена, есть любовница. Муж жене говорит: «Давай любовница будет жить с нами». Та ему отвечает: «Да ты с ума сошел!». А он ей: «Ладно, давай поищем компромиссы: пусть хотя бы сумка ее здесь стоит». Или: мы знаем, что грешить нельзя. А может быть, все-таки компромисс? По вторникам можно?! Есть константы, в том числе и касающиеся этнической ментальности и идентичности, раскачивать которые можно только от небольшого ума или от большого лукавства. И церковнославянский язык как богослужебный стиль русского национального языка — одна из таких констант. И что происходит, когда они раскачиваются, нам очень доходчиво показала наша новейшая история.
Нужно совершенно ясно понимать, что с обмирщением невозможно договориться. Любой компромисс «мир» (в отрицательном смысле этого слова) будет воспринимать как свою небольшую победу, и притом промежуточную. А значит, будет гнуть линию дальше. Сначала к просфорам с повидлом, а потом и с мясом.
— А если мы с вами будем точно знать, что упрощение богослужебных текстов привлечет в храм новых людей, для которых сегодня служба на церковнославянском языке совершенно непонятна, тогда уступки возможны?
— Если батюшка начинает читать канон Андрея Критского на литературном языке, это, напротив, показывает, что он уже полностью провалил катехизаторскую и миссионерскую работу на своем приходе. Значит, он не смог организовать воскресную школу для того, чтобы люди там это все прошли и пришли в храм не «залетными космонавтами». Я это не в осуждение говорю, а в рассуждение. Ведь если в алтаре крыша прохудилась и приходится над Престолом держать зонтик — никто же не назовет эту ситуацию нормальной. И столь же ненормально такое «качество» прихожан, при котором они не понимают, что происходит в храме. Это должно вызывать неистребимое желание «починить» эту «неисправность», а не прикрываться вечно зонтиком подстрочника.
— Но батюшка жалуется, что у него в храме только захожане…
— Так опять-таки, к кому вопрос? Значит, он не смог у себя на приходе организовать миссионерскую работу так, чтобы у него в храме были не захожане, а прихожане. Не стоит искать корень проблемы там, где его нет. Конечно, скажут, что указывать, кому и что делать — это легко, а побудь-ка сам на месте приходского батюшки — небось, выстроится иная иерархия проблем. Но, друзья мои, от капитана корабля, например, ожидают, что он как минимум последний покинет свое тонущее судно. А каждый военный понимает, что у него профессия, которая подразумевает в определенных случаях убийство и смерть. На примере «собственной шкуры» скажу: преподавательская работа особо не кормит, и жена мне нередко об этом напоминает. Когда человек идет в капитаны, в военные, в преподаватели, он должен иметь представление о трудностях и о подвижничестве, к которому его призовет будущее служение. И даже если кто и посочувствует в случае чего, то в глубине души у всех «сочувствователей» будет плескаться неявное чувство, что, дескать, да, жалко мужика, но он поступил как настоящий капитан/военный/преподаватель. И напротив, капитан, первым «смывающийся» с корабля, военный, драпающий с поля боя, преподаватель, оставивший кафедру и пошедший играть в ресторане на гитаре, «потому что я там за один вечер больше зарабатываю, чем за полгода со студентами» — такие персонажи вызывают отрицательные эмоции, даже несмотря на логичный аргумент: «А ты сам-то что сделал бы на тонущем корабле?». Вот и от батюшки ожидается, что он и храм восстановит/построит, и богослужение организует, и приходскую работу наладит, и, и, и… И про церковнославянский язык не забудет. Потому что это нормально.
— Но сам факт изучения церковнославянского языка ведь не гарантирует воцерковления…
— У языка есть две функции: коммуникативная и мыслеформирующая. И в коммуникативной функции язык нам нужен как раз таки только ради чтения текстов. Но проблема в том, что без мыслеформирующей коммуникативная функция не продается. Это все равно, что одну страницу из книги вырвать невозможно — только две или число, кратное двум. Поэтому хочет человек или не хочет, но мысли у него начинают двигаться, когда он правильно (ключевое слово!) овладевает церковнославянским языком.
— То есть человек неизбежно хотя бы задумается о Боге, если будет изучать церковнославянский язык?
— Сложно не задуматься о Боге, изучая насквозь богослужебный язык, созданный специально для богослужения и богословия. Так же как и человек, который намеревается плавать, даже если не ставит себе целью намокнуть, всё равно неизбежно намокает.
— А вы не думаете, что у массового преподавания церковнославянского языка может быть обратный эффект отторжения — как с классической литературой в школе?
— Если цели воцерковления при изучении церковнославянского не ставится, то может. Вот приходит человек в столовую за едой, берет ложку и начинает ею накладывать себе не в рот, а за шиворот. Тогда он станет не только не сытым, но еще и грязным. Если ученик вместо того, чтобы открыть свои мозги и положить туда, пусть даже при помощи учителя, знания, напихивает себе в какие-то другие места, то он и выходит из школы пустой там, где он должен быть заполненный, и заполненный там, где оно должен быть пустым. Вот вам и обратный эффект. К сожалению, обычно самые ценные вещи ценят наименее всего.
— Как бы вы тогда объяснили важность церковнославянского языка, например, абитуриенту, стоящему перед выбором, на какое отделение филфака ему поступать? Учитывая, что больше 10 лет вы и английский язык тоже преподавали…
— Я до сих пор еще преподаю и русский как иностранный, и математику. Но скажем так: если мы учим английский язык, у нас есть конкретные конечные цели с четко ощутимой перспективой. Если мы изучаем церковнославянский язык, то цели у нас неконечные и перспективы неограниченные. В краткосрочной перспективе изучение церковнославянского может создать впечатление бесполезного процесса — «мертвечина» какая-то (любимое передергивание наших оппонентов). Те, кто знает английский, уже давно в Турции, давно в бизнесе, давно замужем. А те, кто остался с церковнославянским, все ходят и ходят в свою эту церковь — ну и чё? А вот это вот «и чё?» начнется уже там, на небесном зачете.
Вспомните, как Николай I построил железную дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом: взял и прочертил прямую линию. С точки зрения краткосрочной перспективы, это было страшно убыточное мероприятие. Потому что в Европе так дороги не строили. Там горы огибали, озера обходили, и получалось намного дешевле. А потом начинается долгосрочная перспектива, и в Европе дороги перестаиваются полностью несколько раз. Потому что выясняется, что по таким дорогам скоростные поезда не пустить. А железную дорогу Москва — Санкт-Петербург в итоге ни разу капитально не перестраивали — по той же самой дороге, что царь Николай I напрямую прорубил, теперь «Сапсаны» летают за 4 часа. C языком ситуация очень похожая.
В краткосрочной перспективе английский язык эффективен, а для вечности — это пшик. Церковнославянский же — это надежный якорь, заброшенный в небо, и если конкретных результатов по принципу «вынь да положь» не видно, то это не значит, что их нет. Вот есть у человека мороженое — его видно. А есть у человека ум — его не видно. В краткосрочной перспективе мороженое может быть отчасти соблазнительнее ума, но в долгосрочной это несравнимые вещи. А умные люди скажут, что и в краткосрочной тоже. Так и с церковнославянским языком. Радость начинается уже здесь и сейчас.
Редакция «Республики» благодарит фотографа Веру Румянцеву за безвозмездно предоставленные фотографии.