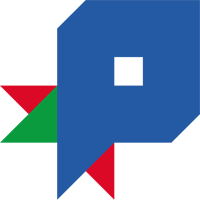Из записок сельского пьяницы
(Читать начало повести: Часть 1, Часть 2)
8
Через десять дней после похорон Роберта, утром, возле старой церкви был обнаружен труп Вертиляна. Обнаружил сторож Петрович, чудной старичок, который на время первого этапа реставрации нашей церкви, подрядился присматривать за стройматериалом, необходимым для данного этапа работ, кирпичами, досками, и т. д., которые завозили большими партиями и складывали возле самой церкви. Специально для этого Петровичу предоставили небольшую деревянную сторожку на колёсах, в которой он порой очень весело коротал свои рабочие часы.
Я в то время отлёживался дома после известного запоя и уже лечился крепким и спокойным сном, а описывать свои тревожные сны и прочие последствия своей чрезмерности на этот раз не то чтобы не хочу, а скорее считаю неверным. Скажу лишь, что в одном из этих тревожных снов я вновь встретился с той самой девушкой, или ведьмой, не знаю, как правильно её назвать, впрочем, понятно с кем. Да, будет правильным сказать так: мне вновь приснилась та самая женщина, чью душу, мы невольно потревожили. В этом сне я встретил её одну, то есть на этот раз она была без своего возлюбленного. Мне снилось, как я стою возле нашей старой церкви, в которую я уже было хотел войти, как она вдруг вышла из-за большой кривой берёзы, стоящей возле крыльца церкви, которой на самом деле никогда не было там на моём веку, и встала на моём пути в дверях, преградив мне дорогу. А я и не думал перечить ей или просить у неё позволения пройти. Она точно была ещё красивее, чем в прошлый раз, но оттого, как мне кажется, я лишь больше боялся её, боялся, что это красивое ровное лицо с голубыми глазами и большими сочными губами вот-вот опять обратится в грязный череп с отвисшей челюстью. Я, решив, что пока она не обратилась в чудище, необходимо попытаться объясниться с ней, прокричал ей сквозь слёзы:
— Да что тебе нужно от меня?! Отстань, умоляю! Оставь меня в покое, у меня нет твоих чёртовых рябиновых бус, они там, на могильной ограде лежат, забирай! И вообще, как я тебе их верну, ведь я даже не знаю, где твоя гнилая башка лежит?! Отстань, умоляю, у меня нет твоих бус! Слышишь, у меня нет твоих бус! Нет! Нет!
Но на этот раз женщина не сказала ни слова, она лишь принялась смеяться как помешанная. Она просто заливалась своим тонким женским смехом и вдруг стала разлагаться, продолжая при этом смеяться, и по ходу этого её страшного превращения из милашки в нечисть менялся и её смех, он становился всё медленнее и отвратительнее. И вот уже вновь предо мной стояло страшное чудовище, хохочущее мерзким визгливым голосом. Эта дрянь, смеясь, ещё и словно прихорашивалась, она прибирала свои грязные мокрые волосы костлявой рукой, словно хотела, чтобы я получше разглядел всю её «прелесть», мокрый грязный череп и отвисшая набок челюсть. Тут я, проснувшись, вскочил с кровати, уронив при этом банку с водой, которую, всегда держу под рукой в такие ночи. Присев на кровати, я чуть отдышался и отправился в туалет курить, и, выходя из комнаты, встретил в прихожей встревоженную маму, от чего ажно вскрикнул. Мама тоже вздрогнула, увидав меня, и, видимо, желая о чём-то меня спросить, не могла вымолвить и слова от волнения, лишь после того как я закрылся в туалете, она спросила меня тихонько из-за двери:
— Митя, ты во сне так кричал, что ль?! Кошмар видел какой?! О каких-то бусах говорил! Я вся перепугалась, думаю, чего случилось! Это всё водка ваша проклятая! Скольких уж убила она!
— Мама, всё! Да, я сон плохой видел, но со мной всё хорошо, иди спать! – как мог, спокойно отвечал я, дымя сидя на унитазе, на эти мамины вопросы и причитания, которые уже давно стали для меня пустыми дотошными звуками. Но мама, чуть помолчав, продолжила терзать меня своими советами и расспросами:
— Митя, ты бы уже бросал пить, сынок! Пожалел бы уже себя да меня! Митя, а это правда, что вы какую-то там могилу осквернили?!
— Нет, и не слушай никого! И иди уже спать! – злобно ответил я, выйдя из туалета, и быстро прошёл в свою комнату, закрыв за собой дверь.
То есть о смерти Вертиляна я опять же узнал со слов мамы, после чего сразу отправился к Ваське.
Оказалось, Васька до того дня был трезв почти неделю, точнее пять дней, на два дня меньше, чем я. И как помню, я не особо-то этому удивился, а может и вовсе не удивился, что теперь могло бы показаться мне странным. Ведь если б за два-три месяца до того мне сказали, что Вася Дьячинок не пьёт почти неделю, я бы как минимум «возмутился», а то и вовсе бы не поверил тому, сочтя эту новость за очередную деревенскую байку. А тут Васька был трезв пять дней и это в такое-то страшное для нас время, и я этому почти не удивлён! То есть странным на первый взгляд теперь может показаться то, что мы порой действовали точно по одной программе, неосознанно, сообща, понимая друг друга без слов.
И хоть я не психолог и не нарколог, но всё это уже давно перестало быть для меня странным и тайным, ведь я, глядя в прошлое, многое обдумал, во многом себя уличил, и оказалось что всё намного проще. Ведь если попытаться себя понять, ничего от себя не тая, сотый раз волей-неволей приходишь к пропитанным потом и кровью аксиомам.
О том, что Васька был тогда трезв последние дни до известного печального события, я от него самого и узнал и нисколько не усомнился в его словах, ведь он просто не видел смысла лжи в подобных случаях, да и не умел врать. К тому же и выглядеть он стал лучше, ведь как сам рассказал, за эти пять дней успел побриться и сходить в баню, и даже подрядился ремонтировать соседу забор и сарай. И уже успел заработать сравнительно немало деньжат и прикупить себе кой-какой еды, чай, сигареты, носки, трусы, зубную щётку и пасту, и пузырёк одеколона. И даже положил немного денег в свой тайник, решив потихоньку копить на маленький телевизор. В его четверти барака стало намного чище: пустые бутылки исчезли, посуда стала чистой, полы были тщательно подметены, окна вымыты, на столе лежала чистая белая в цветочек скатерть, а на кухонном окошке белели свежие шторки, правда плохой запах оставался, но к нему быстро привыкаешь….
Васька рассказал, что известие о смерти Вертиляна застало его за работой. Он в ту минуту как раз чинил соседский забор, когда один знакомый прохожий донёс до него эту страшную новость, отчего Васька всё побросал и прибежал домой, где, не задумываясь, достал из тайника все свои сбережения, и побежал уже в магазин. То есть Васька, ничуть не сомневался, что в тот день я рано или поздно буду у него, и мы будем пьянствовать, потому заранее подготовился к попойке, прикупив всё необходимое для этого и более того: хлеб, кильку в томатном соусе, какие-то сырки, копченое сало, сардельки и наш любимый пирог-медовик. Накрыв на стол, Васька стал мучительно дожидаться меня. Да, ожидание давалось ему очень мучительно, он бродил из угла в угол по своей конуре, постоянно выглядывая в окно, даже несколько раз выбегал на улицу. Он боялся, что я не приду, что я, возможно, тоже умер, а значит, он вновь остался один на этой земле, остался один на один с этим страшным сонным проклятием, которое сделало нас настоящими друзьями. А я, конечно же, пришёл! Васька встречал меня на улице, он стоял на обочине дороги, в белой рубахе нараспашку, в шортах и шлёпанцах, тёплый летний ветерок нежно трогал его русую чёлку, и… я никогда не забуду этой детской, настоящей улыбки, этого блестящего от боли истинной радостью взгляда.
Кстати, я за день то того получил пособие по безработице и поэтому пришёл не с пустыми руками. В общем – пьянка началась!
Ну, конечно, узнав о случившемся, мы с Васькой немало запаниковали, ведь, пожалуй, будет неверным сказать, что мы были готовы к подобному развитию событий, скорее мы уже были готовы для подобного развития событий, были готовы и дальше сходить с ума от всего этого. И каждый из нас, узнав о смерти Роберта, ещё надеялся, что это не более чем совпадение и никакого проклятия нет. Что все эти страшные сны, дурные предчувствия и призраки – это не более чем плод нашей детской мечтательности. Но, узнав о смерти Вертиляна, мы пришли в отчаянье, невольно осознав, что нет смысла даже пытаться уйти от всего этого ужаса. Нас, наверно, пугала не столько сама эта вторая смерть, сколько слишком быстрое, на наш взгляд развитие событий, ведь можно сказать, не успели схоронить одного, как уже и второго черёд настал….
Мы несколько раз пытались начать разговор о проклятии, но вдруг осознавая, что следующим будет кто-то из нас двоих, замолкали перед тем как заговорить уже об ином, о футболе и литературе, и конечно было немало слёз и слов о самом дорогом, о прошедшем. Естественно, каждый боялся умереть, боялся быть следующим, в то же время, не желая другу зла, и каждый из нас порой мучился в душе от этой липкой тягучей противоречивости, порождающей какую-то оглушительную недосказанность, которую мы словно хотели перекричать.
Ах, да, я почти сразу описал Ваське свой кошмарный сон, в котором мне вновь являлась та самая женщина, оказалось, что и ему она опять приснилась. Васька рассказал мне свой сон, и… несколько слов из этого рассказа, как конечно и то, с какой детской болью и грустью они были изречены, мне не забыть до смерти:
— Митя, я в этом сне ещё отца своего видел… возле нашего большого дома, в котохом мы когда-то жили… все вместе. Отец стоял в метхах десяти от меня… он пытался что-то мне сказать, но я не слышал его. Когда он понял, что я не слышу его, он попытался объясниться со мной жестами, но я не понял его, и тут эта женщина появилась и заслонила собой отца, встав меж нами….
— Митя, она смеялась надо мною! Она… она сказала, если я не отдам ей бусы, она отнимет у меня моего плюшевого зайчика! Но я ответил, что не отдам ей зайчика! Слышишь, Митя, не отдам!
И что ещё на первый взгляд может показаться очень странным, мы какое-то время даже не гадали о том, что могло стать причиной смерти Вертиляна. Мы поначалу даже не думали справиться об этом у кого-либо, ведь этот вопрос не то чтобы не мучил нас, мы какое-то время, были словно недосягаемы для этого вопроса. То есть нас в первый день не особо-то и заботило, отчего он умер, нам было достаточно и того, что он – умер. К тому же всё вновь складывалось точно по какому-то страшному сценарию, ведь, как известно, труп Вертиляна обнаружили не где-либо, а возле церкви, и встреча моя с ведьмой во сне состоялась тоже возле церкви. Так неужели этого нам было недостаточно, дабы окончательно убедится, что всё идёт по сценарию проклятия, если б, уже самого только факта смерти наверно хватило бы для того?!
Но уже на следующий день нам не терпелось узнать, отчего же всё-таки издох Лёва, хоть мы и понимали, что узнать правду пока является невозможным. Хотя бы потому, что у Вертиляна в селе не было родственников, которые могли бы знать, была ли уже экспертиза, а если нет, то на какой день она назначена, а если была, то к какому заключению пришли эксперты. К тому же, учитывая то, что у покойного в селе не было родни, мы невольно задавались вопросом, кто же возьмёт на себя похоронные хлопоты? Хотя была у Вертиляна одна подруга, тётя Маруся со старой окраины села, которая уже лет десять не работала и, торгуя сутки напролёт палёной водкой, жила себе сравнительно припеваючи. Но у тёти Маруси всегда было немало таких прихлебателей, как Лёва, и потерять такого любовника для неё было всё равно что потерять пачку сигарет, а значит, платить кому-то за эту потерю для неё являлось безумием.
То есть спрашивать на селе не было смысла, к тому же оно было наверно и глупо, особенно для нас. Ведь пока мы с Васькой ходили в магазин на второй день попойки, я постоянно ощущал на себе недобрые взгляды, которые точно плавили меня, казалось, ведьма ополчила против нас всё село, а сама, посмеиваясь, наслаждалась этим зрелищем сидя где-то на дереве. Да и вообще, в те дни я постоянно на чём-либо спотыкался, в руках ничего не держалось, — за что ни возьмись.
Конечно, немало людей в селе были уверены, что если кто и знает всю правду о смерти Вертиляна, так это мы….
Вечером второго дня запоя мы немного поспали на полу и продолжили пьянку. Выпив по стопочке, закурили и стали вспоминать какой сегодня день и какое на дворе время суток. Как раз в это время в дверь Васькиного барака постучались, и мы были уверены, что это вновь кто-нибудь из знакомых забулдыг, которых мы уже устали выпроваживать. Но на этот раз Васькиным гостем оказался его одноклассник участковый милиционер Вовик, который, проводя проверку по факту смерти Вертиляна, счёл нужным поговорить с нами. Оказалось, Вовик уже заходил пару часов назад, и, обнаружив нас спящих на полу под столом, решил зайти позже. Увидев участкового в форме, мы немного испугались, ведь мы в то время постоянно чего-то боялись и словно хотели убить этот страх водкой, от чего уже выглядели жалко, и точно понимая это, Вовик поспешил уверить нас, что ничего страшного пока не случилось.
Благодаря визиту участкового, кое-что прояснилось, мы узнали, что на улице вечер того же дня, узнали, что у Вертиляна оказалась сломанной шея, которую он мог сломать и сам, ведь его труп лежал возле церкви под обрывом. А ещё от участкового мы узнали, что старик Папкин написал на нас заявление в милицию, с которым Вовик даже позволил нам ознакомиться. Я помню лишь небольшую часть текста этой грамотной галиматьи, в которой помешанный продажный старик обвинял нас не только в осквернении могилы, но и в смерти невинного.
«Помимо того, что эти засоряющие наше общество элементы склонили невинного человека к грехопадению, они же ещё после и убили его за это!!! Их необходимо сжечь на костре, иначе они навлекут проклятие на наше село».
Мы, как смогли, ответили на все вопросы участкового, а после предложили ему выпить водки, но он отказался, и сделал он это как-то очень уж эмоционально. Да, ему мягко говоря, было неприятно находиться в этом доме, и он наверняка задавался вопросом, как можно жить в этой вони? Вовик уже хотел было уйти, но мы принялись вкратце рассказывать ему всю эту нашу страшную историю. Участковый как мог внимательно слушал наш жуткий рассказ, от которого ему, видимо, стало и вовсе невмочь находится в этом доме и примерно на середине рассказа он вскочил со стула и, посоветовав нам «завязывать», чуть ли не бегом рванул на свежий воздух.
9
Скажу сразу, что до разрешения всей этой мрачной истории мы так и не поняли толком, от чего там помер Вертилян, да и как я уже говорил, для нас было не столь важно, от чего он помер. Убил ли его кто, был ли это несчастный случай или приступ какой-либо болезни, для нас это ничего не меняло, нам было ясно одно – следующий или я, или Васька.
Но теперь, когда всё уже давно закончилось, а я… слава Богу, жив, трезв и почти здоров. Теперь, когда время решило многие загадки, я могу в определённых подробностях описать последние минуты жизни Вертиляна, и я уверен, всё именно так и было, ведь дабы докопаться до этих подробностей я наверно утомил расспросами и участкового Вовика, и сторожа Петровича. В общем, я уверен дело было так:
Вертилян вечером, будучи уже немало пьян, как и всегда, незаметно отбился от пьяной компании и направился к своей подруге Марусе на старый конец села то ли за водкой, то ли ещё зачем, или за всем сразу. Когда Вертилян проходил мимо старой церкви, ему приспичило по большой нужде и, видать, приспичило сильно, потому как до дому тёти Маруси оставалось метров пятьдесят, но Вертилян решил справить нужду за штабелями стройматериала, которые тогда лежали возле самой церкви. Хотя, если Лёва сел гадить у церкви, это ещё не повод утверждать, что ему было невтерпёж. И пусть о покойниках плохо не говорят, но извините меня, через дорогу, в метрах двадцати от церкви есть небольшая рощица….
Вертилян присел справлять нужду за штабелем красного кирпича у края небольшого обрыва, что находится в метрах пяти от церкви с восточной её стороны. В это время сторож Петрович, выпив очередные полстакана, вывалился из своей сторожки-вагончика на улицу покурить и вдруг увидел невдалеке на дороге свою бабку Нюру, спешащую к нему с очередной проверкой. Перепугавшийся Петрович забежал в сторожку, допил из горлышка оставшуюся треть бутылки водки и, выйдя на крыльцо, швырнул пустую бутылку в сторону оврага. Видимо, как раз в это время Вертилян поднялся, чтобы подтереться, и бутылка угодила ему в голову. Бутылка о голову не разбилась и скорее всего бедняга Лёва от этого удара начал терять сознание, его потащило в сторону, и он упал с обрыва и во время падения сломал себе шею.
Петрович так мне рассказывал:
— Я утречком вышел посмотреть, не украли ли чего воры, и смотрю за кирпичами бумажки да кучка говна, а возле бутылченка моя ляжит, я тут и креститься давай. Я ведь когда бутылченку-то метнул, услышал звук какой-то особый такой, и ещё подумал, может, зашиб кого? А потом думаю, а коли зашиб, так на то Божья воля! Лишь бы не дитя было! Я поначалу порешил в уме, что после как бабка уйдёт, так схожу, погляжу, да и забыл совсем.
А потом вижу, на краю обрыва малина помята, и вот стою да к обрыву ступить не решусь. А после к обрыву-то ступил, и вижу, внизу мужик какой-то вроде как дохлый уже, с голой попой. А у него лицо и попа в одну сторону смотрют. Тут я и понял, каких делов-то натворил. Давай на церковь креститься да молиться, мол, – Боженька, ай прости ты меня, ведь не думал я человека-то зашибить, это всё бабка.
Думаю, ну всё, в тюрьму до смерти пойду. К участковому Вове прибёг, говорю, мол, так и так, человека я из-за бабки угробил, а он потом уже сказал, мол, хоть ничего тебе за это дед не будет, ты про эту бутылченку всё одно никому ни слова. А я вот, дурак старый, уже всем растрепал, да только мне не верит никто. Даже отец Сергий точно не верит».
Вертиляна похоронил на свои личные деньги священник отец Сергий. Могилу копали не мы, и на похоронах нас не было….
Кстати, пора бы уже рассказать об отце Сергии.
Священник отец Сергий Радов появился в нашей деревне лет за пять до начала этой жуткой истории. И мне для начала очень хочется сказать, что он из «наших», то есть из алкоголиков и наркоманов. Ведь за свою жизнь этот человек успел пройти чрез весь кошмар наркотического плена, (об алкогольном плене даже не говорю) в котором утратил всё и всех и самого себя. Но он не иначе как каким-то чудом смог проснуться и вернуться к жизни, и со дня его этого пробуждения и возвращения до времени событий, излагаемых мною в данных записках, прошло уже более пятнадцати лет.
Хотя, понимаю, что возможно, очень некрасиво и несправедливо с моей стороны представлять этого человека с такими вот мрачными фактами его биографии и тем более сравнивать себя с ним. Ведь даже говоря, что он «из наших» я, пожалуй, слишком загнул, так как мне, к счастью, не выпало стать наркоманом, и я никогда даже не пробовал наркотиков, но зная, каково оно в плену алкогольном, мне даже страшно представить, что испытывают люди в плену наркотическом. Да, я никогда не пробовал наркотиков и до поры очень гордился этим, ведь данный факт, как и множество других оправданий, очень поддерживал меня в алкогольном стойле. Но теперь я мало чего вменяю себе в заслугу и понимаю, что если б в той среде, в которой я существовал всю молодость, наркотики распространялись столь же успешно как и палёная водка, я бы, наверно, не смог от них отказаться, и меня бы уже наверняка не было в живых.
В общем, упоминая о Сергии как об алкоголике и наркомане, я и вовсе не хочу сказать о нём ничего плохого, просто это первое, что пришло мне на ум, а лгать я не хочу. И, пожалуй, этим я невольно равняю себя с ним лишь потому, что в остальном я ему неровня. Ведь Сергию помимо алкогольной и наркотической зависимости пришлось через многое в жизни пройти. Это и детский дом- интернат, из которого, несмотря ни на что, Сергий вышел умным и крепким малым. Это и четыре года учёбы в строительном техникуме, совмещённые с работой ночного грузчика или сторожа, это и война в Афганистане в составе тех подразделений, которые официально никогда там не были, и лишь сравнительно недавно об этом стали писать и говорить. Кстати, на этой войне Сергию пуля раздробила ребро и пробила лёгкое и теперь это ранение постоянно напоминает о себе. Несложно представить, что ждало его после службы — одиночество, безработица, отчаяние от понимания того, что никому ты не нужен. И казалось, всё, что может спасти в такие минуты жизни — это любовь, и она пришла – любовь, но через полгода любимая девушка погибла в автокатастрофе, а о том, что было дальше, я уже рассказал. Хотя нет, самого главного-то я и не сказал, — я не сказал, как Сергий сидел на краю крыши пятиэтажного дома с бутылкой водки в руке…. В то время он уже отбился от всех компаний, уже не мог найти денег на наркотики. Небольших денег, заработанных всяким тяжёлым трудом, в том числе и копкой могил, хватало лишь на паршивую водку, которой Сергий пытался хоть немного унять ломку. И вот, однажды днём он сел на краю крыши, решив допить свою последнюю бутылку водки и полететь вниз, в небытиё, к своей любимой, назло всем богам. И когда он подносил бутылку к губам, чтобы сделать последний глоток, бутылка вдруг выскользнула из его дрожащей руки и, отскочив от парапета, полетела вниз. Сергий посмотрел на падающую бутылку и тут увидел внизу идущую вдоль дома молодую девушку с ребёнком. Молодая мама осторожно вела своего малыша, держа его за руку, и вдруг малыш, который, по всей видимости, едва научился ходить, освободился от маминой руки и, радостно голося, побежал вперёд. И всё шло к тому, что бутылка как раз упадёт на голову ребёнка, и в эти доли секунды в уме Сергия, который если и верил в бога, то лишь для того, чтобы проклинать его за все свои страдания, блеснула лишь одна мысль, лишь одна молитва. И если бы у него тогда было время на то, чтобы успеть уловить эту мысль, успеть вспомнить и изречь избранные этой мыслью слова, он бы прокричал примерно следующее: «О, Господи, нет, – я всё смогу!» И вдруг малыш резко остановился и, улыбаясь, посмотрел наверх, на Сергия, а бутылка упала прямо пред ним и разбилась об асфальт вдребезги….
Обо всём этом отец Сергий сам мне и поведал ещё до всей этой истории, и рассказывал он об этом без лишних эмоций, спокойно и даже порой улыбаясь, и в те минуты, когда он улыбался, взгляд его точно переполнялся каким-то тёплым осенним светом, какой-то тёплой осенней росою. И это тот самый орлиный взгляд, которого мы обычно боялись. Взгляд, от которого ничего не утаить и который точно прожигает насквозь.
Отец Сергий среднего роста, смугл, усат и безбород, тёмные длинные волосы его почти всегда собраны в хвостик, а про карие его глаза, а вернее, про его взгляд я уже сказал. На улицу он всегда выходит в рясе и скуфье, а дома порой носит свитер и камуфляжные штаны. А ещё он обманчиво худощав, то есть так строен, что кажется, его должно ветром сдувать, и конечно глядя на этого человека, не верится, что он толкает двухпудовую гирю более тридцати раз и раскалывает кирпич кулаком.
Он вместе со своей молодой и прекрасной матушкой Ариадной и двумя маленькими попятами живёт недалеко от старого храма в большом старом деревянном доме, часть которого он переделал под приход. Дом этот он в своё время купил за свои сравнительно небольшие деньги, но втрое больше затратил на его ремонт, так как до Сергия в нём много лет никто не жил, и казалось, уже не будет жить. Приход, конечно, тесноват, но светел и опрятен, и в нем, как и полагается, есть алтарь, иконостас с двумя вратами и вся церковная утварь необходимая для проведения служб и свершения таинств. Да и тесным приход кажется лишь в дни великих христианских праздников, когда, бывает, тем, кто в него не помещаются, приходится стоять на улице. А в остальные дни в нём вполне хватает места для всех прихожан, которых в нашем селе наберётся не более десяти-пятнадцати человек, из которых примерно половина явно не в себе.
И, несмотря на то, что я часто бывал у Сергия в гостях, и во время каждого моего визита мы о многом говорили за чаем, я, пожалуй, ничего не могу заключить об его характере, но понимаю, что так оно, наверно, и должно быть. Ведь быстро понять человека невозможно, а если и возможно, то лишь человека недалёкого, а такие люди, как отец Сергий, порой настоль далеки, светлы и безграничны, что, кажется, всей жизни не хватит их понять. И ты со временем невольно отпускаешь это тщетное желание понять их, и наверно, даже не из-за всей его тщетности, а из-за всей его ненадобности, ведь всё недосягаемое для разума всегда досягаемо для чувств. И ты просто начинаешь чувствовать этих людей своим миром, начинаешь осязать сердцем всю их безграничную светлость, верность и доброту! Во как!
Конечно, краткую биографию Сергия знало всё село, отчего я и подобные мне элементы сразу уразумели, что этого священника уж точно за бороду не подёргаешь, и вовсе не от того, что у него её нет. А если честно, мне кажется, что он наверняка подставит под удар левую щёку, возможно, подставит и правую, но не более. Но я не слышал, чтобы Сергий дал кому-либо тумаков, хотя их у него никто и не выпрашивал особо, а вот вышвыривать пьяных «прихожан» из прихода ему доводилось не раз. Кстати, в числе тех пьяных философов, погрязших в сладких и коварных терниях сомнений, есть и ваш покорный слуга. В тот день отец Сергий, устав от моих выходок и матов, схватил меня за шиворот и вышвырнул во двор. Я тогда помню, поднялся с земли, отряхнулся и пообещал Сергию забыть дорогу в его дом и уже хотел уйти, но задержался ещё на минутку, чтобы на прощанье как следует нахамить ему. И нахамил, сказав приблизительно следующее:
«Вы, священники, все халявщики, все вы самые грешники… Бог не простит вам все эти расколы и распри. Ведь вы уже почти четыреста лет его не слышите. Ведь сам Иисус, если чего и боялся больше всего, так это раскола церкви, которому причиной станет лишь ваше тщеславие! Свиньи! Вот ты мне, Сергий, честно ответь, зачем патриарху Никону всё это нужно было?! А?! Что, боишься, или ты никогда всерьёз не задавался этим вопросом?! О да! Правильно, — потому что Никон себя богом возомнил! Так вот и молитесь теперь своему богу Никону, а Христа не троньте! Гады!»
Сергий ничего не ответил.
Ах да, примерно за месяц до того отец Сергий крестил меня. Я пришёл к нему пьяным в два часа ночи и уговорил его крестить меня немедленно, будучи почти уверен, что после этого всё в моей жизни само наладится. Сергий не сразу согласился, и уверен, в его жизни,это был один из самых трудных обрядов крещения, ведь разве мог я пьяный спокойно стоять на месте и молчать во время обряда, из которого я, правда, мало чего помню. Помню лишь, как постоянно пытался о чём-то заговорить или куда-то пойти, как чуть было не дотронулся до алтаря, как отец Сергий читает вслух священное писание, держа его в левой руке, а правой рукой больно держит меня за плечо. И я бы совсем не удивился, если бы в те минуты он вдруг прервал обряд и завопил:
«О, господи, прости меня, но я уже не знаю, что мне делать с этим придурком!».
Спустя неделю я, будучи уже трезвым, нашёл в себе мужество прийти к Сергию и попросить его крестить меня заново, ведь был уверен, что крещение, принятое на пьяную голову. не является действительным, но священник убедил меня, что в этом нет необходимости.
Вот так!
Если б вы знали, как мне хочется уже закончить описывать эту историю, ведь я и не знал, что мне, мягко говоря, будет столь неприятно вспоминать о ней в письменном виде. Ведь одно дело просто помнить о тех днях, которых я, конечно, никогда не забуду, и другое дело описывать своё прошлое, ведь в таком случае иные моменты ты словно переживаешь заново. И я, признаюсь, уже успел пожалеть, что начал писать, и в тоже время сердце мне говорит, что я должен написать об этом, да и поздно уже отступать, наверно, ведь написано уже сравнительно немало, отчего рука не поднимается похерить всё. Да, писатека из меня, мягко говоря, никудышный, но я намереваюсь в будущем, как только закончу рассказ, передать эти рукописи какому-нибудь настоящему писателю. Мне кажется, путный писатель при желании может сделать из моих записок высокий роман, а беспутный если только средненькую повесть сделает, и я очень надеюсь, что мне, хотя бы с этим в жизни повезёт…
10
На седьмой день после похорон Вертиляна, на которых как я уже сказал, мы не присутствовали, то есть на десятый день после его смерти, запой наш продолжался. Скажу сразу, это был самый страшный запой моей жизни. Мне тогда уже стали слышаться какие-то голоса, ноги почти не слушались, руки скручивало, внутри всё дрожало, а от водки уже словно и не становилось легче. То есть я понимал, что мне пора идти домой, отлёживаться, но я не мог остановиться, не мог заставить себя оторваться от этого грязного стола, от этого вонючего барака. И в тоже время я не хотел уходить, потому что всего боялся, боялся каждого шороха, боялся выйти на улицу, боялся предстоящего похмелья и предстоящей встречи с ведьмой во сне. Я всего боялся. К тому же чувствовал себя очень одиноким, потому что у Васьки уже временами ехала крыша, особенно когда у нас заканчивалась водка, отчего мы точно оставались один на один с собой, а взять водки было негде. Все деньги давно были пропиты. В магазинах нам уже давно перестали давать в долг, а всем «бутлегерам» мы уже задолжали, от чего одни из них, устав от наших молений, выставляли нас за порог, а иные и вовсе закрывали пред нами двери, даже не желая нас слушать. Но стоит заметить, что если в селе кто и относился к нам по-прежнему, так это торговцы палёной водкой, ведь им по своему призванию не дано верить во всякие там проклятия. Они ведь и не думают стыдиться своего бесславного пути. У них на всё свои взгляды, для них лучший путь – это путь бесславный; для них бесславнее жить на гроши. И если они и не любят мёртвых, так лишь потому, что мёртвые не могут возвращать долги….
Хотя, конечно, был ещё один вариант достать водки – та самая тётя Маруся. Но, во-первых, она жила далеко – на старом краю села, а поблизости и без неё хватало этой грязи, отчего мы обращались к ней лишь в крайнем случае, или проще сказать на худой конец. А во-вторых, хоть мы уже и были тогда на этом самом худом конце, мы не решались обратиться к тёте Маруси, невольно причисляя ей какую-то нехорошую роль в этой страшной истории. Мы, как мне теперь отчётливо видится, решили, что тётя Маруся должна нас ненавидеть, и даже не из-за Вертиляна, — но из-за чего?! Мы как будто видели в ней сообщницу ведьмы, — но почему?! Может, потому, что она живёт недалеко от старой церкви и кладбища?! А может, потому, что она слишком уверена в себе и притом сравнительно хороша собой?! Странно ли?!
То есть, мы точно забыли, что хоть тётя Маруся и красива, она по сути, ничем не отличается от других торговцев палёной водкой, а значит, плевать она хотела на нас, значит, вряд ли она станет заботиться о своей, и тем более чужой душе, и дорожит лишь своею шкурой.
Васька то плакал, то хохотал, то вдруг начинал оскорблять меня всякими грязными словами, а через минуту уже просил прощения. Мы даже подраться успели, правда, если это можно назвать дракой, — я немного потаскал его за чуб, а он поцарапал мне лицо. Он порой начинал бродить из угла в угол, разговаривая при этом с собой, несколько раз куда-то уходил из дому. Так один раз он куда-то ушёл, а вскоре вернулся с пятью бутылками палёной водки. Я в тот миг как раз дремал за столом, и, услышав скрип дверей, даже не поднял головы, будучи уверен, что это помешавшийся Васька опять бродит туда-сюда. Я поднял голову лишь в тот миг, когда он уже громко ставил бутылки на стол, небрежно вынимая их из пакета. Выставив все пять бутылок, Васька, аккуратно сложив пакетик, убрал его в шкаф, присев на табурет боком к столу закинул ногу на ногу и принялся тупо смотреть то на меня, то на водку. Немного помолчав, Васька, указывая ладонью на бутылки, в свойственной ему на тот момент манере объяснил мне, что к чему:
— Вот, Митя, взял у Махуси в долг! Сказал, ей, мол, так и так, — Лёву помянуть надо, и мол, Митя завтха отдаст, — никуда не денется, — он ведь в тебя влюблён, и даже жениться на тебе думает!.. Извини, солгал, но что не сделаешь в такие минуты для общего блага! Кстати, она, даже не мялась, что удивительно! Может, ты и впхямь в её вкусе! И что она в тебе нашла?! Эй, я вызову тебя на дуэль! Ха-ха-ха! Да ты не слушай меня, — сочиняю! А знаешь, эта сволочь и впхавду почти не мялась! Может, думает, что это действительно мы Лёву замочили?! Мол, гляди, и её замочим! Они ведь такие… да и мы, конечно, не лучше! А если честно, я на неделю взял, на нас обоих! Нет, ты только вдумайся, – на целую неделю?! А будем ли мы здесь ещё неделю?! То есть, может, и отдавать не пхидётся! Ха-ха-ха-ха! Хотя, кто-то из нас ещё будет жив, пожалуй, и пожалуй что ты! А почему именно – ты?! Может – я! Но, ты, если что, долг не отдавай, потехпи уж, недельку дхугую!.. Обойдутся, не обеднеют, хватило бы уже им на нашей с тобой беде наживаться! Ха-ха-ха-ха!
Так, ближе к вечеру шестого дня известного запоя, мы продолжили пьянствовать, но от этого вонючего пойла мы уже скорее дурнели, а не пьянели, а если б кто-либо сейчас напомнил мне, что дело не только в качестве пойла, я бы, конечно же, с этим согласился….
Пока мы распивали первую бутылку, Васька успел и посмеяться надо мной и поплакать, а в тот миг, когда я, взяв в руки вторую бутылку чтобы открыть её, искал глазами нож на столе, он схватил со стола нож и сказал:
— Митя, ты случайно не ножичек ищет?! Так вот же он!
И тут Васька приставил нож к моему горлу.
Я вроде как почти не испугался, может, потому, что пребывал я тогда пусть не в пьяном, но явно в нездоровом виде, то есть, был немного немало не в себе?! Иль от того, что сама эта ситуация мягко говоря, ничего хорошего мне не сулила, я просто не мог, не хотел поверить в происходящее?! Или мне уже было всё равно! Да, пожалуй, и то, и другое, и третье! А может, я не испугался в тот миг потому, что я просто не мог бояться Васьки, и вовсе не из-за его хилости и даже кротости, а потому, что я чувствовал в нём Бога?! Да, есть такие люди, в которых ты словно чувствуешь Бога! И среди моих знакомых к счастью немало таких людей, и некоторые из них обладают огромной физической силой и бравым духом. Они способны насмерть зашибить кулаком и без раздумий броситься в смертельную схватку за правое дело, но даже когда они порой выходят из себя, ты их не боишься, потому что видишь в их глазах Бога. Кажется, если такой человек поколотит тебя за просто так, ты будешь не в силах обидеться на него. Кажется, если он станет тебя убивать, ты невольно примешь это за должное, а если и испугаешься, то совсем чуть-чуть. А бывает, человек жалкий, маленький, которого пощёчиной убить можно, а ты его всё равно немного боишься, словно чувствуешь беса, поселившегося в его пустой голове. Ведь духовность, как и природа не терпит пустоты, и там, где вдруг не стало Бога, там обязательно появиться дьявол.
Кстати, я, слава Богу, не встречал пока сильных людей, одержимых бесом, — а может, просто в сильном человеке и бес спокойный?!.
Но даже если в Ваську порой и вселялся бес, то этот бес был каким-то хиленьким, маленьким, болезненным с трясущимися ручонками. Пожалуй, так оно было и в тот раз.
Как только Васька приставил нож к моей шее, я невольно задрал голову и замер. Я, чувствуя горлом холодное дрожащее лезвие ножа, прохрипел сквозь зубы:
-Васька, ты чего?!.. Убьёшь, меня что ль?!
-Конечно, убью! Я не хочу быть следующим! – Как-то игриво, что ли, отвечал мой одержимый жалким бесом друг, глядя в меня безумными глазами. – Конечно, убью! Кстати, ко мне сегодня ведьма являлась, — она была здесь, в моём доме. Но ты её не видел, ты в ту минуту спал за столом. Она стояла позади тебя и смеялась! О, как она кхасива, Митя! Она велела мне убить тебя, обещав мне за это жизнь! Я, взяв молоток, подошёл к тебе спящему сзади и уже хотел хазмозжить твою голову, но… я не смог. Я не повехил ей, а её это лишь веселило, а эта гадина всё смеялась и пехед тем как исчезнуть, сказала, что у меня ещё есть вхемя подумать. Она обещала явиться завтха, и мол, если я до завтха тебя не убью, она для начала отнимет у меня моего плюшевого зайчика… но я не отдам ей моего зайчика.
И тут Васька точно проснулся, убрал нож от моего горла и поднялся со стула. Он медленно поднял правую руку и заметно испугался, увидев в ней нож, точно не мог понять, каким образом он оказался в его руке. Потом он испуганно отбросил нож на пол и, словно впервые с начала всей этой истории придя в себя, робко огляделся вокруг, опустил голову и медленно упал на колени.
— Ах, Митя, что мы с собою сделали?! – проскулил Васька и чуть слышно заплакал.
Немного проплакав, он вытер слёзы рукавом, и, продолжая стоять на коленях, сказал мне то, чего уверен, не говорил ещё никому.
— Знаешь, Митя, я слабый, подлый человек, я ведь никого никогда, наверно, и не любил, ни за кого не боялся. Я лишь себя любил, я боялся лишь пхожить напхасно, потому напхасно и пхожил – ну и поделом мне! Я ведь всегда гением хотел стать! Или гением, или никем! Думал, тем, что стану гением – отмщу всем. За детство, за одиночество своё отомщу, за похуганную любовь свою! Любовь ли?! Я больше всего боялся остаться пхосто талантливым поэтом, я хотел быть только гением, и хади этого готов был отказаться от всего, готов был мучиться. Ведь это только талантливый человек талантлив во всём, а гений гениален только в одном. И, кажется, всё у меня, как у гения, да только я не гений! Да и оно только кажется! Ведь пхоще всего отказаться от того, чего у тебя не было, и пожалуй, и не будет никогда, чего ты не заслужил, например – от любви! И мы настоль тщеславны и гохды, что даже и не пытаемся заслужить эту любовь, мы лучше будем стхоить из себя обиженных гениев! И я только сейчас понял, что и гением-то я хотел стать лишь хади любви….
Я не помню, всего, что сказал мне Васька в те мучительные и, конечно, светлые минуты своей жизни, а всё то, что мне посчастливилось запомнить, передал выше как мог правдиво.
Что происходило в следующий час, я помню очень смутно, помню, что мы продолжили пить, а Васька уже сидя за столом, всё говорил и говорил сквозь слёзы. Помню, Васька достал из тайника тетрадки, и принялся читать мне свои стихи, но я не помню, ни строчки… и примерно через час, после того как Васька принялся изливать мне душу, я отключился.
Я проснулся под столом уже поздним вечером, мне было так худо, что я с огромным трудом взгромоздил свою задницу на табуретку. На столе стояли две бутылки водки, одна целая, а другая начатая, то есть во второй бутылке недоставало водки совсем чуть-чуть. Я тут же схватил начатую бутылку и с трудом, так как руки мои сильно дрожали, налил себе стопку водочки. Первая доза мне «не пошла», и я, не успев добежать до раковины, наблевал в Васькины сапоги. Перед тем как повторить попытку опохмелиться, я перекрестился, и заставил себя подумать о чём-либо вкусном. Вторая стопка пошла хорошо и сразу прижилась, а третья пошла еще лучше, после чего я закурил и стал гадать, куда мог подеваться Васька. Выходило что-либо одно из двух, или он опять куда-то ушёл, либо спит на кровати в комнате. Через пару-тройку минут мне немного полегчало, и я, затушив окурок в сковороде, отправился в комнату, проверить, спит ли Васька или он опять куда-то убежал.
Подходя к дверям комнаты, я заметил, что в комнате включен свет, — и толкнул дверь….
Знаете, я теперь часто терзаю себя вопросом — зайди я в комнату сразу после того как проснулся, смог бы я что-либо изменить?! Да, у меня и раньше была возможность попытаться что-то изменить, и хоть я и сам, можно сказать, стал жертвой всего этого кошмара, я не могу теперь не винить себя…
Васька сидел на полу, прислонившись спиной к кровати. Он сидел в луже крови, — своей крови! Вены на запястье его левой руки были перерезаны, и из раны маленьким фонтанчиком била кровь. Голова его чуть запрокинулась назад, лицо было бледным, губы уже отдавали синевой, он, весь дрожа от холода, глядел сквозь меня взглядом полным смертельной усталости и страха, ему хотелось спать!.. Возле его ног на полу в луже крови лежала опасная бритва, а чуть в стороне валялся открытый чемодан, тот самый чемодан из тайника. Правой рукой Васька прижимал к себе плюшевого зайчика, всего испачканного кровью. В печке ещё искрила кучка пепла, и я сразу понял, что эта вот искрящая кучка пепла – всё, что осталось от Васькиных фотографий и стихов….
Узнав меня, Васька судорожно вздохнул и попытался мне что-то сказать, но не мог вымолвить ни звука, лишь шевелил своими синеющими губами, как рыба. Но я в тот миг от страха, пожалуй, выглядел и соображал не намного лучше своего умирающего друга. Поначалу я был в ступоре, то есть не мог даже шевельнуться, и, осознав, что всё это не очередной кошмарный сон, а реальность, уже не знал, за что взяться, отчего на миг пришёл в отчаянье и упал пред Васькой на колени в лужу крови. Я заплакал и весь задрожал, когда увидел, что руки мои испачканы кровью. Я протянул к Васькиному лицу свои дрожащие окровавленные руки и шепотом говорил:
— Васька, Васенька… зачем?! Зачем… ты?!
По бледному лицу Васьки скатилась слезинка.
Он, еле шевеля языком, чуть слышно прошептал в ответ:
— Митя… Митя, пхости! Я не хочу опять остаться один… на этой земле. Я… я… не отдам ей зайчика…
Через несколько секунд я уже мог отчасти оценить ситуацию и понял, что от моих слов и слёз сейчас толку мало как никогда. В поисках чего-либо, чем можно было перетянуть Ваське руку, я решил, что оконная штора вполне сгодится. Я подполз на четвереньках к окну и сорвал штору вместе с карнизом, и… тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я заметил краем глаза, что кто-то смотрит из уличной темноты в окно, на меня. Я посмотрел в тёмное окно и увидел в вечернем мраке красивое лицо ведьмы, она смотрела на меня искрящими глазами и ехидно улыбалась. Я с криком отшатнулся назад…
Теперь уже смею утверждать, что в следующий миг я отключился, пробыв без сознания более часу. Я очнулся лёжа на боку в луже Васькиной крови. Видимо, падая, я сильно ударился головой об пол, потому как голова моя сильно болела, мои руки и вся моя одежда были в крови. Чуть приподнявшись, я посмотрел на застывшее бледное лицо Васьки, на его синие губы, остывшие в чуть заметной улыбке, и, наверное, понял, что уже ничем не смогу помочь ему. Хотя, мне, пожалуй, в ту минуту было всё равно, ведь сообразив, что к чему, я пришёл в панику. Мне захотелось как можно быстрее выбраться из этого проклятого дома. Я почти не чувствовал ног и попытался быстро подняться, опираясь на руки, но руки мои скользили по залитому кровью полу, отчего я несколько раз шлёпался обратно в лужу крови. Несколько секунд я елозил на месте, размазывая кровяную гущу по полу и громко кричал и плакал, нет, я даже кричать от страха не мог, — я мычал. После я пополз к выходу, размазывая кровь по полу. Когда я почувствовал, что мне не удастся быстро выбраться на улицу, моё паническое отчаянье вызванное чувством преследования, переродилось в гнев, отчего я перевернулся на спину и, продолжая ползти к выходу, стал кричать, брызжа слюной:
— Ну забери меня! Забери меня! Мерзкая дрянь! Ну что же ты! Забери! Ну, давай, — иди ко мне, грязная шлюха!
Так, громко бранясь, я и выполз на улицу. В это время мимо дома по дороге проходила группа молодых парней и девушек, которые, услыхав мои вопли, поняли, что в этом доме происходит нечто ужасное, и поспешили на помощь. Я помню, как запищали девушки, увидев меня всего окровавленного, и как двое парней забежали в дом….
Примерно через полчаса я уже сидел, скрестив ноги, на обочине дороги, сонно улыбаясь, невольно глядя куда-то в светлое прошлое, а сельский фельдшер смывала ваткой кровь с моего лица и рук. Уколы мне очень помогли тогда, но больше помогло присутствие рядом самого фельдшера, ведь когда она наклонялась ко мне, я видел вблизи её большие божественные груди в чёрном бюстгальтере.
Я помню, там ходили какие-то люди, как выносили Ваську, накрытого простынёй, как кто-то меня пожалел, а кто-то упрекнул, но мне было всё равно, и ничего я тогда не видел перед собой, кроме титек фельдшерицы и того светлого прошлого, в котором меня теперь ждал ещё один мой друг.
Ах, да, я помню, как следователь, которому я как мог всё объяснил, хотел забрать меня до выяснения всех обстоятельств, но участковый Вовик убедил его оставить меня в покое под свою ответственность, мол, никуда он, если что, не денется….
11
Я смутно помню, как я брёл на другой конец села к отцу Сергию, но уверен, что не было у меня ещё труднее пути. Помню, как только я вышел из дому, начался сильный дождь с грозой, отчего я сразу промок до нитки. Меня всего мутило, ноги меня почти не слушались, отчего большую часть пути я держался за стены и заборы. Несколько раз в дороге мне становилось так худо, что я падал на колени и рыгал и плакал, а молнии сверкали надо мною. Я подымал голову, чтобы дождь смыл с моего лица слёзы, сопли и рвоту, — я, задыхаясь, пил дождь. И чтобы подняться с колен, мне приходилась подползать на четвереньках к забору по лужам. Держась за забор, я с трудом вставал на ноги и, шатаясь, продвигался дальше.
Каким-то чудом мне таки удалось добраться до дома отца Сергия. Когда я уже на четвереньках карабкался на крыльцо, навстречу мне из дома выбежала матушка Ариадна, которая увидала меня из окна.
— Ох, господи, Митенька, что с тобою?! Что ж ты с собою, миленький, делаешь?! Давай, пойдём в дом, переоденешься да обогреешься, чай пить будем, – причитала матушка, помогая мне подняться на крыльцо, — Сергия правда нет дома, но он скоро вернётся. Он чью-то избу освещать ушёл, да видимо дождь там пережидает.
То, что происходило через минут десять после того как я, можно сказать, дополз до прихода, я помню уже отчётливо, и помню, уже с первых секунд моего пребывания в доме священника мне стало легче.
Я сидел за столом за кружкой горячего чаю. На столе стояло блюдечко с какими-то карамельками и вазочка с баранками, но мне ничего этого не хотелось, и даже чай я глотал с трудом и лишь потому, что Ариадна очень на этом настаивала, уверяя, что от чаю мне станет легче. И действительно вскоре меня совсем перестало мутить, я точно вернулся в себя, и мне стало сразу и сладко и неловко. Мне было стыдно находиться в доме Сергия после того как я пообещал ему забыть дорогу сюда, и главное — оскорбил его, хоть и был уверен, что Сергий и не вспомнит об этом.
На мне уже была сухая одежда, в которую меня переодела Матушка; какие-то очень потёртые, но явно фирменные джинсы, белая футболка, огромные семейные трусище зелёные в клеточку, огромный синий с красными полосками свитер с заплатками на локтях и новые носки. На ногах моих были домашние тапочки, а подбирать мне уличную обувь не потребовалось, так как я пришёл в резиновых сапогах, которые матушка помыла и поставила сушиться у протопленной с утра плиты. А мою одежду матушка обещала постирать и сказала, что я потом могу забрать её в любое время, но не ранее чем через пару дней.
То есть на мне была чистая поношенная одежда, которой в нашем приходе, оказывается, есть немало. Её приносят сюда разные люди, которые, наверно, не любят много говорить и не умеют сказать красиво, или у которых просто хватило сил собраться и на этот раз унести старые вещи не на помойку, а в церковь. Об этом мне поведала сама матушка.
Как правило, эту поношенную одежду матушка с батюшкой раздавали малоимущим, которые, пытаясь свести концы с концами, утратили всякую гордыню или горьким пьяницам и бомжам, из которых многим для этого и с гордыней своей расставаться не нужно. Кстати, я заметил, среди уличных пьяниц хватает гордецов, которые даже вшей на себе гоняют, задравши нос.
Я, честно скажу, чувствовал себя неловко в этой поношенной одежде и не только потому, что её кто-то долго носил до меня, а потому, что она и впрямь казалась мне чужой. То есть я немного переживал, что возможно, теперь из-за меня какому-то толстому пропойце не хватит одёжки….
В доме Сергия мне было очень уютно и тепло, меня покинул страх, который сводил меня с ума последнее время. Ведь я уже забыл, что это такое — жить без страха.
Матушка-красавица сидела напротив меня за столом и рассказывала мне о картошке, помидорах и кабачках, о том что старший в этом годе пойдёт в сельскую школу, так как сам того желает, а младший решил художником стать, о том, что Сергий недавно болел и т.д. Но я, честно сказать, плохо слушал матушку, я более так сказать созерцал, вкушал сердцем и душой сладкий свет этого жилища, отделанного деревом, с цветочными скатертями и шторками. Я упивался этим волшебным церковным запахом, и старался не пялиться на матушку, от которой трудно отвести глаза…. Но я в душе был рад, что эта светлая красота, эта рассветная чистота недосягаема для меня. И, казалось, если обвести эти голубые глаза тушью и тенями, если накрасить эти малиновые губы яркой помадой, если снять косынку с этой головки и уронить эти золотые волосы, — можно бросать библию в огонь.
Из комнаты порой выглядывали забавные попята, два мальчонки, как оказалось – семи и пяти лет, особенно запомнился младший из них своей милой улыбкой и русым горшочком на голове.
Жирный серый кот, растянувшись на подоконнике, медитировал под мелодию утихающего дождя.
От всего этого мне очень захотелось выпить чего-либо покрепче, причём выпить вместе с матушкой, и я уже хотел было спросить у Ариадны вина, но вовремя одумался.
Сергий пришел, когда уже почти закончился дождь. Увидев меня в своём доме, Сергий совсем не удивился и, поздоровавшись со мной, прошёл в комнату. В последний раз мы виделись с ним неделю назад, на Васькиных похоронах. Ваську тоже хоронил на свои деньги Сергий, хоронил скромно, конечно, ведь чтобы схоронить человека по-человечески, на самом деле не надо много денег, достаточно заказать столяру гроб и нанять могильщиков, ну а поминки – это дело в народе, конечно, святое, а, значит, как правило, необязательное.
Сергий вышел из комнаты уже в другой одежде, то есть он вошёл в комнату в рясе, а вышел в синей в клеточку фланелевой рубашке и камуфляжных штанах. Матушка оставила нас. Сергий, перекрестившись, сел за стол слева от меня и налил себе в большую красивую чашку чаю из электрического самовара.
-Рад видеть тебя в своём доме, Митя! Выглядишь ты, правда, неважно. Вижу тяжко на душе твоей! – Сказал Сергий и осторожно отпил горячего чаю.
Мне было очень неловко, я примерно с минуту молчал, опустив голову, не зная с чего начать разговор.
— Сергий, я уверен, ты слышал, что мы могилу осквернили? – начал я робко.
— Ну, да, слышал что-то! – ответил священник, макая баранку в чай.
Потом я подробно рассказал Сергию обо всем, что приключилось со мной за последние два месяца, и в те минуты, когда я очень живо рассказывал о страшной ведьме и проклятии, Сергий вроде как даже улыбался. А когда я постарался передать словами весь ужас дня, в который умер Васька, священник, явно соглашаясь с чем-то, медленно покачал головой, прищурив глаза.
Окончив свой рассказ на смерти Васьки, я ждал от священника какого-то ответа, но Сергий молчал, давая этим своим живым молчанием понять мне, что я ещё не всё сказал, — и он был прав.
-Согрешили мы, отец Сергий – продолжил я свой рассказ, но говорил я уже так живо как прежде. – Прокляты мы! Прокляла нас эта женщина! Она всех убила – и меня она убьёт! Чувствую, недолго мне осталось! Я эту неделю после смерти Васьки постоянно своей смерти ждал, и сейчас жду, да только в голове оно не укладывается, — порой вроде как проснёшься, вроде как лучик света увидишь, да как о проклятии этом вспомнишь опять и поникнешь, и опять тьма.
Всю неделю я то пил, то не пил, не поймешь, я ведь обычно если пью, так пью, а если нет, так нет, а тут какая-то тягомотина началась, вроде и есть я, а вроде и нет меня. Всю неделю как тень ходил, да ты ведь видел, каков я на похоронах был. Какой там мне могилу копать, я уже себе место приглядывал, хотя чего мне место приглядывать, когда возле отца место есть. Да только не хочу я, Сергий, возле отца лежать, не хочу… Я вообще хочу за кладбищем лежать, в стороне от всех, один; как жил один сторонясь всех, так и лежать, хочу один.
Я эти дни и ночи по улицам да по товарищам скитался, боялся я домой идти, ведь знаю, что эта мразь меня дома поджидает. А вчера вечером домой пришёл, грязный весь, рваный, небритый как видишь, мама что-то мне говорит, плачет, а я… а я лишь об одном думаю-гадаю – каким образом меня ведьма приберёт? Полночи на полу в углу комнаты просидел, а потом чувствую, что не могу я больше так, нет больше сил, бояться и ждать….
Кушачок с маминого халата снял да к дверной ручке его привязать уже хотел, — я ведь знаю что так можно, — у моего друга матушка на дверной ручке повесилась, на кушачке, — да руки точно онемели, тут я на колени упал да тихо заплакал. Плачу да на этот кушачок смотрю, понимаю, не может оно так больше продолжаться и не верится мне, что это — всё, что вот так, прямо сейчас всё и закончится. Стою на коленях, плачу и вдруг почувствовал что-то кто за моей спиной стоит, я уверен это была она, ведьма, но обернуться я не посмел. Я от страха весь съёжился, зубы стиснул, а потом и не помню что было, — проснулся под утро на полу с кушачком в руке….
Прокляты мы! Наказал нас бог! Она всех убила и меня убьёт…
Я, опустив глаза, глубоко дышал, чтобы не пустить слёзу.
Сергий налил себе ещё чаю, и, уронив на меня свой орлиный взор, тихо сказал:
— Это не ведьма их убила, — это водка их убила! И тебя она убьёт!
— Водка?! — удивился я, хоть в душе я словно был готов к подобному ответу. – А как же проклятие, ведьма?! Откуда она тогда взялась?!
— Да нет никакого проклятия! А ведьма это и есть водка! – ответил священник и взял из вазочки баранку. Но от этого ответа я лишь привычно для себя потерялся, отчаялся, решив, что разговора не состоится, и уже хотел было уйти, но Сергий точно почувствовал это:
— Слушай, Дмитрий, вы на кладбище тогда зачем пошли?! Могилу осквернять?!
— Да нет, конечно! – робко ответил я.
— Ну а тот прах, вы ради потехи или ради наживы потревожили?!
— Нет, конечно, нет! У нас просто выбора не было!
— Ну, а в чём тогда проблема?! О да, тревожить прах является тяжким грехом, но проблема в том, что вы, когда обнаружили этот гроб, даже не подумали со мною посоветоваться, а я ведь в пяти минутах ходьбы от кладбища живу. Ну, да теперь уже ничего не изменишь! А вообще, вы поступили далеко не худшим образом, ведь вы предали прах обратно земле, а это очень важно. А что касается этих рябиновых бус, то знаешь, от этих дьявольских символов, от этих женских украшений и на земле проку нет, а на небе тем более….
Ещё проблема в том, что вы и после ко мне не пришли. Да, пути Господни неисповедимы но, видится мне, кого-кого, а Ваську можно было спасти, то есть его словно сам Бог, спасать велел, чего не скажешь о Разплюеве и тем паче о Вертиляне. Нет, я тебя не виню, я в этом больше кого-либо повинен…. Но что уж тут поделаешь!.. То есть, я чувствую, что Ваську можно и нужно было спасать, но я не представляю каким образом, ведь человек сам должен к свету обернуться, насилу его не обернёшь. А эта «ведьма» — таких как ты и Васька особенно любит….
И тут Сергий обронил на меня свой пронзающий взор, от чего меня всего передёрнуло….
А вообще, Дмитрий, ты ведь сам сказал, что вы — согрешили! Так ведь?! – продолжал священник.
— Ну!
— А согрешили пред кем?!
— Да-да, пред Богом, конечно! – ответил я, и в следующий миг первый после дождя лучик солнца проник через окно в дом и больно лизнул мои глаза.
— Вот в том-то и дело, что пред Богом! То есть если вы пред Богом согрешили, то он с вас за это и спросит, и он в любом случае не стал бы насылать на вас проклятий и тем более напускать на вас каких-то там ведьм! Это просто невозможно! Ну, как вы этого понять не можете, люди добрые!
А ты ведь ещё и крест смотрю, носишь! Ты ведь как-никак худо-бедно – крещён! Ты ведь талантливый парень! Но знаешь, я не собираюсь пытать тебя вопросом, — веришь ли ты в Бога? Ведь к истинной вере дорога обычно короче, чем дорога к истинному ответу. Скажу лишь, что если талантливый человек не верит в Бога, значит настоль он и талантлив, коли видит более лёгкое, более близкое объяснение своему таланту….
Да и вообще жить, как Бог завещал, это очень трудно, куда проще поверить в какого-нибудь там космического принца и грешить направо- налево, куда проще поверить в какую-то ведьму, ведь для этого ничего не надо делать, лишь пей себе да плачь.
Люди привыкли пороки в обычаи возводить, в традиции, в норму, и детей своих с рождения к греху приучать. Люди любят смешивать всё, а когда после прижмёт их, они уже и сами разобраться не могут, где тьма, а где свет! Слабые люди, – прости меня Господи!
Нет, я слабых людей не осуждаю, я их жалею! И тебя жалею! На тебя ведь и впрямь горестно смотреть уже! Да и с головой у тебя уже явно неладно – такую чушь нести! Мы ж с тобой ещё полгода назад о Достоевском разговаривали, а теперь с тобою только о бабах судачить.
Конечно, мне было обидно услышать такое, ведь было время, когда отец Сергий, можно сказать, восхищался моим умением мыслить логически и открыто и прямо признавал мой талант, и мне горько теперь признавать, что лишь за это я его и уважал, лишь за этим и ходил к нему. Нет, я не буду сейчас разглагольствовать о себе хорошем и о себе плохом, лишь скажу — теперь меня порой тошнит от себя тогдашнего, меня порой и от себя вчерашнего тошнит что, в общем-то, указывает лишь на иные мои проблемы, возможно, которые меня пока ещё пьянят.
Сергий многое сказал мне в тот день, и, конечно, многого я не запомнил, но зато иные моменты помню почти дословно.
В тот день в доме священника я пробыл не меньше двух часов, примерно с девяти до одиннадцати утра. За это время мы выпили, наверно, по пять больших чашек чаю и съели двух вяленых лещей, которых Сергий завялил по какому-то своему тайному рецепту. И знаете, — у него это здорово получилось, то есть я до того ещё не ел настоль вкусных вяленых лещей, особенно с чаем.
Помню, когда мы поедали лещей, я спросил Сергия:
— Слушай, отец Сергий, ответь мне, почему творческие люди много пьют?!
— Гм, потому что души у них чуткие и зоркие шибко, – Отвечал священник, макая кусочек вяленого леща в чай. – Такая чуткая душа любое дуновенье почует, каждый лучик во тьме приметит, но зато ни одна зараза мимо её не пройдёт. И если творческий человек верит, что талант ему Богом дан, он своё творчество служением находит, оттого и некогда ему с ума сходить. А иной такой человек себя Богом мнит или видит себя в равной степени особенным и для Бога, и для чёрта, считает, что Бог и чёрт ради него подружились, а дьяволу того и надо. Дьявол рукой художника любит воду мутить. А иные и сами рады дьяволу служить, и точно ждут от него благодарности, а какая от дьявола благодарность, известно!
Ты думаешь, верующий человек в облаках летает?! Нет, — он таки как раз по земле ходит! Понимаешь, для верующего человека Бог это реальность, это его семья, друзья и коллеги, его работа, его творчество, — и дьявол для него реальность, оттого он и знает своё место….
И я знаю своё место, но не знаю, что ждёт меня завтра – и это счастье. Скажу так — я много знаю из того что было, мало знаю из того что есть, и ничего не знаю из того, что будет. Я не знаю, что ждёт меня через день, через час, через миг, но любое испытание я приму с радостью в душе, смиренно, ведь чтобы там меня ни ждало, оно будет по умыслу Божьему – и это счастье!
Да пусть завтра хоть ядерная война начнётся….
Батюшка с матушкой проводили меня до калитки. Ариадна просила меня заходить к ним в гости почаще, она на прощание перекрестила меня и, обняв, поцеловала в щёку, а Сергий крепко пожал мне руку и сказал:
— Не пей, Митя! Не умирай, друг мой! Поверь! Поверь — это не ведьма их убила, — это водка их убила! И тебя убьёт, если не опомнишься!
Я пообещал этим сильным добрым людям, что впредь буду чаще к ним приходить, и, поблагодарив их за всё, пошёл радостный прочь.
Младший попёнок помахал мне ручкой из окна, я помахал ему в ответ.
Мне тогда показалось, что из дома священника я вышел другим человеком. Да, в те минуты я был просто счастлив, я не чувствовал ни страха ни боли, я точно порхал. Конечно, я ещё испытывал тягость похмелья, но эта тягость была ничто в сравнении с тем состоянием, в котором я шёл к Сергию. К тому же погодка после дождичка разгулялась, и луженое солнце августа сушило густыми лучами тяжёлые кудри уставших берёз. Птички сладко пели в придорожных кустах смородины и ирги. И я уже не мог понять, как это меня угораздило поверить во все эти страшные сказки о ведьмах и проклятиях, — поверить в такую чушь! Казалось, жизнь вернулась в одночасье и…. И мне чертовски хотелось выпить.
Когда я, прошёл улицу, на которой живёт Сергий, и вышел на главную дорогу, я увидел впереди вдалеке столб дыма – явно горел дом. Я сразу прикинул, что горит какой-то дом возле дороги, как раз в том месте, где стоит Васькин барак, и мне придётся проходить мимо этого места. Так и есть, оказалось, горел Васькин барак.
А что скажешь о пожаре?! Пожар он и есть пожар, то есть, как и всегда в жизни, — что одному горе, то другому зрелище. Языки пламени рвались сквозь крышу к небу, шифер громко стрелял, вокруг горящего дома как правило сновало много зевак и ребятишек, отчего водители пожарных автомобилей громко ругались, сдавая назад. А потом крыша обрушилась, и раздались вопли ужаса и восторга.
Поначалу говорили, что дом загорелся от попадания молнии, но впоследствии выяснилось, что его поджёг старик Папкин, и тому нашлось несколько свидетелей. И тогда всем стало ясно, что помешанного старика пора куда-то определять – если не в тюрьму, так в дурдом. Но когда за ним приехали, старик закрылся в своём доме, прокричав пред этим «Я не отдамся в руки слугам дьявола! Я знаю, дьявол давно охотиться за мной, ведь я посланник божий! Уходите прочь, нечистые!» И за те полчаса, которые понадобились следователям и медикам, дабы понять, что ничего кроме как вышибить дверь у них не остаётся, старик успел покончить собой – повесился на дверной ручке.
Тогда, на пожаре, я повстречал своих прежних товарищей и в итоге очутился на весёлой попойке, организованной по случаю рождения дочки у одного из них.
На следующий день я проснулся дома, и мне было так худо, что я хотел умереть. Если бы тогда рядом был какой-нибудь там рубильник, останавливающий жизнь, я бы не задумываясь, дёрнул за его ручку. Я не мог лежать, не мог стоять, я хотел исчезнуть, именно исчезнуть, чтобы меня даже не хоронили, даже не вспомнили обо мне, точно меня и не было вовсе. Я словно завис, содрогаясь над чужим пространством, мне хотелось хотя бы на миг забиться в какую-то маленькую уютную комнатку, где мне не будет страшно и больно, где я смогу быть в безопасности, и я с ужасом понимал, что эта комнатка – это смерть.
Я сидел на кровати, когда в дверь квартиры кто-то постучал. Я ждал, что мама откроет дверь, но она видимо ничего не слышала. Я вышел в прихожую. Увидев меня с кухни, мама сразу запричитала сквозь слёзы:
— Ой, Митя, долго ты ещё над собой да надо мной издеваться будешь?! Сил моих больше нет! Ты же помрёшь так скоро, а фельдшер сказала больше не пойдёт к нам! В то время когда мама причитала, в дверь вновь постучали, но мама и глазом не повела, то есть она и в этот раз не услышала стука.
Я робко подошёл к двери и дрожащим голосом спросил – кто там? Я ждал ответа, но услышал лишь, как мама сказала:
— Что, до горячки допил?!
Не дождавшись ответа, я приоткрыл дверь и посмотрел в щёлку, — за дверью никого не было. Медленно отворив дверь, я осторожно вышел в подъезд, и тут я увидел эту мразь, эту ведьму, точнее, верхнюю часть её скелета и, конечно, этот грязный череп с отвисшей челюстью. Эта нечисть ползала по потолку подъезда, и, увидев меня, она с визгом бросилась мне на грудь:
— Верни, верни, верни мне мои бусы!
Август – октябрь 2014
Кончезеро