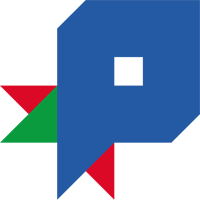Фото: pixabay.com
***
Городок Уайтхем на севере Норфолка, местечко – сущий пустяк и ничем выдающимся с момента основания не прославился. Единственное, чем по праву гордится пара сотен его обитателей, так это тем, что здесь ровно на одну ночь останавливался принц Руперт после разгрома войск роялистов солдатами Кромвеля в печально известной битве при Нейзби. Какие-либо иные достопамятные происшествия, как радостные, так и печальные, по удивительному стечению обстоятельств до времени обходили Уайтхем стороной и он оставался этакой тихой заводью, где редкостью был даже ненастный северный ветер.
Из всех жителей города нельзя выделить никого, кто отличался бы неблагонадежным, странным или недостойным поведением. Конечно, и сейчас некоторые поминают недобрым словом чудачества мистера Катхилла, знатного любителя напиться пунша да пострелять потом в ночи из старой четырехфунтовой пушки времен герцога Веллингтона, или мисс Смайли, однажды голышом проскакавшую на коне по главной улице, но их невинные забавы в расчет, право слово, брать нельзя. Вековое спокойствие посеяло в душах горожан поразительную даже для британской сельской глубинки умиротворенность.
Герой этого рассказа Огастес Кулидж — мой близкий друг, ныне, к прискорбию, покойный, не был местным уроженцем. Являясь валлийцем, он приехал к нам лет семь тому как и выкупил врачебную практику у мистера Артура Хаксли. Тот, по возрасту своему уже неспособный заниматься лечением других людей, говоря откровенно, был лекарем настолько же неважным, насколько прекрасным являлся человеком. Уступив место мистеру Кулиджу, он совершил самое полезное благодеяние из всех возможных, ибо последний являлся врачом от Бога. Казалось, не имелось ничего, что был бы неспособен излечить наш новый доктор. Прозорливость в постановке диагнозов он сочетал с умелым обхождением, тактом и умеренными ценами за оказываемые услуги. Днем и ночью он готов был прийти на помощь любому страждущему и ничто иное не может служить лучшим примером признания его мастерства, как похвала мистера Форсайта, известного ворчуна, после того, как доктор Кулидж удачно вырвал ему зуб. «Он и в самом деле знает свое дело», так выразился мистер Форсайт, обретя возможность говорить и могу заверить, что мало кто удостаивался от него настолько уважительного тона, с каким это было сказано.
Помимо того, мистер Кулидж был закоренелый холостяк, можно даже сказать, ненавистник женщин, не самих по себе, разумеется, а лишь как спутниц мужчин. Единственной дамой, которую он терпел длительное время у себя в доме, была миссис Оллсоп, его экономка. Большой любитель поесть, доктор отличался полнотой, впрочем, весьма здоровой и, как считают многие, увязывая толщину живота с характером — именно потому также добродушным нравом. Главной же особенностью доктора Кулиджа, воспитанного на теориях Гартли, Дидро, Дарвина и Энгельса, являлось его исключительно материалистическое восприятие действительности. Сам я не очень силен в подобных вопросах, хотя Огастес Кулидж усиленно старался привить мне собственную точку зрения. Равно некоторое время, особенно в первые пару лет практики, он, пользуясь доступом к пациентам, пытался и до них донести, как он говорил, «голос истины». К сожалению для него, в наших краях, люди помимо добродушия и терпимости, отличаются также и исключительной религиозностью. Потому мистера Кулиджа внимательно слушали, даже кивали ему, но почитали его убеждения чем-то вроде чудачества, каковое, как известно, у всякого найдется свое. Очень метко сказала по этому поводу миссис Баркли, владелица бакалейной лавки. Она как-то раз, после визита к ней доктора, произнесла, мол «пусть его верит, будто человек от обезьяны произошел или в какую иную чепуху, главное, подагру мою хорошо пользует». Я сам слышал эти ее слова и могу засвидетельствовать, что воспроизвел их абсолютно точно.
В конечном итоге, мистер Кулидж вполне смирился с неудачей на ниве свержения христианских ценностей пациентов, вверенных ему Господом Богом, тем более, его воззрения от того тоже ни мало не пострадали. На них, на воззрения его, оказало серьезнейшее воздействие нечто иное, а именно события, являющиеся главным предметом моего повествования. К ним я теперь, пожалуй и перейду.
***
В августе восемьсот восемьдесят восьмого года мистер Оуэн, эсквайр, продал свое поместье, иногда называемое «Дом на холме» и расположенное в паре миль от города. По правде говоря, мистера Оуэна у нас отродясь никогда и не видели; по слухам, обитал он где-то в Индии, а полученным им в наследство имуществом, состоявшим из небольшого дома с парком, занимался его управляющий. Разумеется, в факте сделки ничего необычного не было, — зачем, спрашивается человеку владение, в котором он ни разу не появлялся? — но ввиду почти полного отсутствия в Уайтхеме прочих новостей, ее у нас обсуждали долго и со вкусом. Более всего интересовали жителей два обстоятельства: за какую сумму отдана усадьба и кто теперь стал владельцем оной. Первое так навсегда и осталось тайной, а вот второе вскоре начало проясняться.
Новый хозяин появился в «Доме на холме» как-то тихо и незаметно и долгое время не показывался на глаза соседям, чем немало возмутил местных обывателей.
В таком небольшом городке, как наш, где вся округа друг с другом знакома, все не раз побывали друг у друга в гостях и все по-соседски, по-доброму перемыли друг другу косточки, подобное независимое поведение исстари воспринимается резко отрицательно.
Помню, как миссис Баркли высказалась по этому поводу мистеру Стивенсону, отставному мировому судье. «Странный господин верно считает, что соседи ничего не стоят», сказала она, заворачивая в хрустящую бумагу свежий хлеб, столь любимый супругой мистера Стивенсона. «Так вот, господин, поселившийся в доме Оуэна, совсем не желает хотя бы нанести визиты вежливости; не удивлюсь, если он и в церковь не ходит по воскресеньям», заключила бакалейщица, а мистер Стивенсон, в силу статуса своего верно полагавший себя одним из первейших, кому следует наносить визиты вежливости, вздохнув, полностью с ней согласился.
Миссис Баркли, вот уж кстати умная и прозорливая старушка, словно в воду глядела. Господин, поселившийся в «Доме на холме» совсем не спешил ни к кому с формальными любезностями. Он не появлялся в церкви ни в воскресные, ни в какие иные дни и даже за покупками лично не приходил. Та же миссис Баркли была крайне удивлена, увидев однажды утром в лавке странного вида человека, смуглого и маленького, с немного диким и бегающим взглядом и, по ее словам, «змеиным» лицом. Он сделал несколько приобретений, а на ее вопрос, кем собственно говоря является, буркнул что-то про дом среди дубов. Незнакомец явно имел ввиду бывшую усадьбу Оуэна, поскольку та располагается на холме как раз в окружении дубовой рощи. Сей человек, господином его язык миссис Баркли назвать никак не повернулся, точно не являлся новым владельцем поместья. Одет он был скорее как слуга, да и все поведение его выдавало в нем не только иноземца, но и вообще, лицо подчиненное.
Самого же хозяина вскоре после того наконец стали замечать в наших окрестностях. Очевидцы описывали высокого, худого мужчину средних лет, гуляющего по лесу и окружающим Уайтхем полям, неизменно с охотничьим псом и ружьем за спиною. Людей он сторонился, на приветствия не отвечал, а лишь приподнимал краешек шляпы. Ввиду таинственности собственного поведения хозяин усадьбы Оуэна (вот ведь прикрепилось такое именование на язык местным обывателям! Впрочем, немудрено — покуда стало известно имя нового владельца, минуло некоторое время), сделался активным предметом сплетен в городке. Мистер Стивенсон, а также еще несколько почтенных жителей даже направили ему от имени всего Уайтхема поздравление «со столь счастливым и удачным приобретением». По замыслу сих джентльменов бумага просто обязана была побудить нового владельца поместья на холме явиться в город с визитом и удовлетворить общее любопытство. Но этот хитроумный план, вполне достойный потягаться с маневрами Наполеона под Аустерлицем, провалился. Неизвестный господин все так же сторонился общества, бродил по полям да лесам в одиночку и лишь посылал время от времени за покупками в город странного, смуглого лакея.
Вот при таких обстоятельствах и состоялось его свидание с доктором Огастесом Кулиджем.
***
Одним удивительно погожим днем начала сентября (как ни силился мой друг вспомнить точную дату, все никак не мог), он устроил себе послеобеденный моцион в окрестностях Уайтхема. Надо сказать, что доктор Кулидж вообще весьма любил прогуляться и исходил пешком не один десяток миль, будучи искренне убежден в пользе для здоровья свежего воздуха и физических нагрузок. Так вот, и на сей раз, размеренно ступая и раскидывая забавы ради любимой тростью мелкие камешки с дороги, он шел мимо живой изгороди, за которой начинался весьма обширный перелесок. Вдруг, из этого самого перелеска в воздух взмыла стая испуганно кричащих бекасов, а вдогонку им раздался выстрел дуплетом. Мистер Кулидж конечно же испугался, поскольку все вышеописанное случилось неожиданно и кроме того, очень от него близко. Сразу затем раздался собачий лай, громкий и басовитый, кустарник изгороди затрещал и на дорогу через него продрался огромный, черный пес весьма впечатляющей наружности. С решительным видом сей зверь направился было к доктору Кулиджу и тот уже занес трость, впрочем, не очень надеясь на успех, а скорее с перепугу, как из перелеска послышался короткий, резкий свист и пес замер на месте, приоткрыв клыкастую пасть и сверля моего друга ненавидящим взглядом. А потом Огастес Кулидж увидел его.
Помню, как доктор передернул плечами, когда с нервной дрожью в голосе описывал показавшегося ему господина. Тот, со слов мистера Кулиджа, представлял собою любопытнейший экземпляр рода человеческого. Моему герою явился мужчина лет от тридцати пяти до сорока, высокий и крепко сложенный. Облачен он был в зеленую норфолкскую куртку, распахнутую на широкой и выпуклой груди, охотничьи сапоги и дирстокер, надвинутый низко на лоб. Из-за этой шляпы (престранный, надо отметить, головной убор) лицо ее обладателя Огастес Кулидж вначале особенно не разглядел. Зато он приметил внушительных размеров двуствольное ружье в руке у неизвестного господина.
Происходящее, надо отметить, доктора весьма впечатлило. Причем впечатлило настолько, что он, обычно такой сдержанный и внимательный к собственной речи, даже вымолвил: «Проклятье!». Слово это для благовоспитанного и порядочного мистера Кулиджа имело исключительный, ругательный оттенок, одно лишь произнесение его приравнивалось едва ли не к святотатству и было возможно только в самых невероятных случаях. Судя по всему, именно такой случай имел место быть и сакраментальное «Проклятье!» сотрясло воздух.
Незнакомец между тем вторым свистом подозвал пса к ноге и приподнял дирстокер в знак приветствия. Мистер Кулидж, разумеется, сразу понял, кто перед ним: новый хозяин «Дома на холме». Доктор в ответ также коснулся котелка и постарался получше рассмотреть таинственного соседа. Он показался мистеру Кулиджу иностранцем, ну или как минимум, говоря собственными его словами, «не чистокровным англосаксом». На эту мысль моего друга натолкнули удивительно смуглая, опаленная явно нездешним солнцем кожа незнакомца и сверкающие, черные глаза его. Вообще же, лицо у него было узкое, треугольное, с рублеными, тонкими чертами, красивое и в то же время неприятное. От себя отмечу, что поскольку лично мне повидать данного господина так и не пришлось, то передаю указанное описание, исключительно опираясь на слова дорогого доктора.
Он кстати полагал, будто сейчас между ним и встреченным господином произойдет какой-то диалог, однако вместо того, последний пошел своей дорогой, придерживая пса за мускулистый загривок. Быть может, так и разминулись бы два действующих лица этого рассказа, но, буквально перед тем как скрыться за поворотом дороги, огибающей живую изгородь, незнакомый господин остановился.
— Верите в проклятья? — спросил он, не оборачиваясь, а лишь слегка повернув голову и демонстрируя точеный профиль.
— Нет, — ответствовал ему с некоторой поспешностью Огастес Кулидж. — Я верю в медицину, лауданум и силу познания, а еще…
Удивленный тем, что новый хозяин «Дома на холме» вдруг заговорил с ним, — подумать только, впервые вообще и именно с ним из всех местных жителей, эпохальное событие! — друг мой, как часто с ним случалось, несколько увлекся. Он готов был уже продолжить перечень своих убеждений и незаметно перевести разговор в плоскость борьбы с предрассудками, как собеседник прервал его.
— Вы, судя по всему, местный доктор, верно?
Мистер Кулидж подтвердил вполне очевидный вывод и представился.
— В таком случае, убедительно прошу вас сегодня же вечером навестить меня, только без излишней огласки. Уверяю, визит будет носить исключительно профессиональный характер и, разумеется, я его оплачу.
Природное любопытство являет собой удивительнейшую и парадоксальнейшую черту характера человеческого индивида. Еще вчера жаждавший узнать тайну личности владельца дома Оуэнов, мистер Кулидж, если верить его собственным словам, был готов даже на такой опрометчивый поступок. Сегодня же, стоило завесе неизвестности приподняться, он заметно стушевался и пробормотал нечто невразумительное, позволяющее трактовать его позицию и как «да» и как «сожалею, но…».
— Не идите пешком, возьмите кэб, — не обращая ни малейшего внимания на ответ Кулиджа, произнес незнакомец и, продолжив было путь, опять остановился. — Меня зовут Артур Дюпон. Жду Вас вечером.
***
К определенного рода заслугам мистера Кулиджа следует отнести то, что он сразу никому не сказал об этой встрече, хотя и с трудом избежал искушения зайти по такому случаю в кофейню «Роза», где обычно собиралось общество нашего городка. Единственным, кому он, в качестве исключения, поведал о знакомстве с новым соседом, был я, покорный ваш слуга. Причиной тому явилось наше очень близкое знакомство и отношения настолько дружеские, насколько вообще могут они быть между двумя джентльменами. Помню, каким смущенным выглядел доктор, вспоминая те мгновения, как живописал он свой испуг перед огромным псом и неведомым господином, мало того, что грозного вида, так еще и при оружии. Пес, как уверял Огастес Кулидж, охраняя хозяина, проявил несравненную выучку, какую несомненно редко можно увидеть. Касаемо же мистера Дюпона, доктор выказал убеждение, что этот человек определенно способен на дерзновеннейшие из поступков и ему к примеру, выстрелить в человека, ровно то же самое, как пальнуть в бекаса. Суровая решимость буквально исходила от нового владельца поместья на холме, но, было в нем, по тонкому замечанию доктора «нечто обреченное». Уж не знаю, какие обстоятельства тогда, при кратком свидании побудили его так решить, однако мистер Кулидж, при всей наивности и простоте отличался той особой проницательностью, каковая или присуща человеку с рождения, или отсутствует и будет отсутствовать вовсе.
Так что же произошло дальше, закономерно может поинтересоваться любой, кого несколько утомили мои рассуждения? А вот что.
Примерно до времени вечернего чая мистер Кулидж пребывал в состоянии некоего смятения. С одной стороны, и он чувствовал это интуитивно, не стоило являться с визитом к господину явно не гостеприимному и изначально поставившему себя вне общественной жизни Уайтхема. С другой, мистер Дюпон особенно подчеркнул, что просит моего друга прибыть к нему не просто так, а исключительно в связи с его профессиональными знаниями. В таком случае, отказ мог быть приравнен к нежеланию исполнять обязанности доктора, а это абсолютно противоречило всем этическим нормам поведения. И Огастес Кулидж решился. Ближе к наступлению темноты он уложил в саквояж необходимый, по его мнению, комплект медицинских принадлежностей, включая хирургический набор, инструменты для приема родов, аптекарскую коробку и даже хлороформный ингалятор, уселся в старенькую двуколку и отправился в путь. Он, кстати, запросто мог дойти до поместья Оуэнов и пешком, пусть на это потребовалось бы около часа, — зато какой прекрасный моцион! — но, чем-то убедил его таки мистер Дюпон, предлагая проехаться верхом; чем же, доктор Кулидж и под пыткой сказать бы не осмелился.
Обуреваемый смешанным чувством любопытства и одновременно легкой оторопи, так запросто внушенной ему новым соседом, мистер Кулидж добрался до дома, ранее принадлежавшего семейству Оуэнов, а нынче ставшему жилищем для весьма странного господина неопределенного рода занятий и неизвестного прошлого.
Ранее доктор никогда там не был, равно как впрочем и почти всякий из обитателей Уайтхема, за исключением разве только миссис Баркли, помнившей времена столь давние, что и подумать боязно. Из описания, данного мистером Кулиджем, можно рассудить, что поместье состояло из довольно обширного и ухоженного сада с многочисленными цветниками и деревьями, огороженного высокой изгородью и небольшого, уютного дома в два этажа, стоявшего на склоне покатого холма. Прямо за тем холмом начиналось болото, поросшее серой травой и оттого воздух в саду показался моему другу несколько влажным; но так, самую малость.
Хозяин встречал гостя на крыльце, подле которого расположилась гипсовая кариотида с загадочно томным и сонным ликом. Подобная осведомленность вначале показалась мистеру Кулиджу необычной, но он почти сразу нашел ей объяснение. Дело было в особенностях местности и расположения дома: он оказывался почти совершенно скрыт со стороны дороги, но вот из него, наоборот, окрестности просматривались великолепно.
Касаемо владельца дома, а именно мистера Артура Дюпона, то он показался Кулиджу еще более необычным, чем давеча. На сей раз одетый в черный, скромный костюм-тройку, элегантного, всего скорее французского покроя, он вместе с тем не удосужился расстаться с ружьем; более того, слуга его, тот самый, смуглый, востроносый малый, с неприятным лицом чужеземца, тоже имел при себе оружие. Необыкновенную композицию, составленную этими двумя, довершал уже знакомый страшный, черный пес, впрочем теперь совершенно равнодушный по отношению к гостю.
Несмотря на воинственный вид, мистер Дюпон оказался весьма приветлив. Со словами: «Очень признателен Вам доктор, за то, что явились в мое скромное жилище», он спустился с крыльца и, не откладывая оружие, а лишь переложив его в левую руку, поздоровался с Кулиджем, смущенно забормотавшим что-то в ответ.
— Прошу, не бойтесь и не обращайте внимание на мои странности. Уверяю, они никоим образом не коснутся вашей особы, — произнес Дюпон, заметив определенную настороженность моего приятеля.
Он старался вести себя как можно естественнее, этот своеобразный господин, но от проницательного взора мистера Кулиджа не ускользнули ни некоторая бледность Артура Дюпона, ни напряженность, с какой он стоял на свежем воздухе. То же самое в равной, а может и в несколько большей степени касалось и смуглолицего слуги его. Тот походил на сжатую до предела пружину и, кажется, во всем вокруг себя видел опасность. Не повода, отнюдь, а одного только намека на повод ему, наверное, было достаточно для выстрела.
Мистер Кулидж поежился, отгоняя дурные мысли, а Артур Дюпон тем временем позвал его внутрь дома, где только и позволил себе разоружиться, впрочем, как сразу выяснилось, не совсем. Он положил двустволку на стол в холле и в один момент, когда полы пиджака его распахнулись, оказалось, что за поясом у новоиспеченного владельца поместья имеется еще внушительного размера револьвер. Чего же нужно опасаться, подумалось заметившему это Огастесу Кулиджу, чтобы жить вот так, не расставаясь ни на минуту с оружием, всегда будучи настороже? И как вообще можно так жить?
Смуглолицый слуга между тем накрепко запер двери за моим, пребывающим в состоянии непреходящего удивления приятелем, полностью превращая дом в неприступную для внешнего мира крепость.
***
Полагаю, удивленное состояние доктора было крайне очевидным, да и могло ли быть иначе, ведь не каждый день встречаешь людей, подобных мистеру Дюпону.
— Возможно, мои манеры вызовут неприятие, тем более здесь в самом, как говорится, сердце Англии. Причиной тому многолетняя служба в Африке, на Золотом Береге, а там, знаете ли, зевать было нельзя, местные дикари так и норовили пустить кровь любому белому. – Попытался объясниться хозяин усадьбы, затем привлек к себе смуглого крепыша и добавил, — кстати, забыл представить моего слугу, его зовут Иша, мы вместе еще с Пенджаба.
Мистер Кулидж, несмотря на всю свою образованность, был, как оно часто случается, весьма ограничен ею в профессиональном плане, в том смысле, что интересовался в основном вопросами медицинского характера и еще сферой религиозной, точнее наоборот, атеистической. Потому, и он честно признавался мне, делясь впечатлениями о той встрече, если смутно и помнилось ему, где расположен Пенджаб, — «кажется в районе Индостана или поблизости», вот его собственные слова, — то про Золотой Берег он вообще ничего не знал. Я, каюсь, был осведомлен еще менее его, мои познания в географии за ненадобностью не заходили дальше Лондона на юге и Эдинбурга на севере. Потому мы с мистером Кулиджем потратили немало времени за просмотром карт, а я даже заказал по случаю подробнейший глобус. И вот, благодаря собственной настойчивости и склонности к самосовершенствованию, мы выяснили, что Пенджаб в самом деле расположен в Индостане и не далее чем как за полвека тому назад стал провинцией нашей родной Британии, а Золотой Берег, находящийся в Западной Африке, и того позднее, и там по сию пору крайне неспокойно. Но, вернусь, к моему рассказу.
— Хотелось бы знать, в чем требуется вам моя помощь, мистер Дюпон, — произнес доктор, а хозяин поместья будто спохватился.
— Да, разумеется, — молвил он и направился вглубь дома, увлекая Кулиджа за собой.
Обстановка внутри особняка оказалась не менее удивительной, чем люди, в нем обитавшие. Дом, мало того, что был снабжен на всех дверях, начиная от входной и заканчивая комнатными, крепкими запорами, так еще и имел решетки на каждом окне. Мистер Кулидж сделал вывод, с которым нельзя не согласиться, о том, что все это вряд ли досталось новому хозяину от прежнего, а почти наверняка было установлено уже им. В холле и в коридорах доктор успел, помимо того, разглядеть всевозможные иноземные предметы, так-то маски необычной формы, посохи, деревянные и каменные статуэтки, щиты, уборы из перьев, копья и даже, хотя он и не очень уверен, нечто, напоминающее высушенные человеческие головы, пучком, наподобие луковиц, подвешенные у камина.
Тем временем мистер Дюпон и слуга его привели моего товарища к одной из дальних комнат, находившейся на втором этаже. Артур Дюпон, извинившись, зашел в нее и спустя пару минут пригласил внутрь доктора, а смуглолицый Иша остался при входе, подобно часовому.
В комнате, подле окна, из которого открывался вид на болото, в кровати лежала женщина. Была она молода, возможно, лет около двадцати или двадцати пяти, не более. Внешность выдавала в ней смешанное происхождение: европейские черты неуловимо перемешались с иноземными, вероятно африканскими и тем придали ее лицу удивительную, правда немного дикую, варварскую красоту. Она очевидно чувствовала себя не лучшим образом, имела бледный вид, тяжко дышала и судя по всему, испытывала слабость, а кроме того…
— Вам известно, когда наступит срок разрешиться от бремени? – поинтересовался Огастес Кулидж, не понимая толком, у кого спрашивать: самой ли девушки или у нависшего над нею мистера Дюпона.
— Ожидаем со дня на день, — ответил Артур Дюпон. – Именно затем я пригласил вас и очень прошу, осмотрите ее немедленно.
Как честно признавался Кулидж, несмотря на всю серьезность ситуации, его только в тот момент немного попустило. Он полностью уверился в отсутствии злого умысла по отношению к себе со стороны хозяина поместья и более того, даже проникся к нему неким подобием симпатии, заметив, с какой любовью и нежностью тот взирает на беременную. Разумеется, оставалось еще очень много неясного в его поведении, но доктор Кулидж предпочел не забивать этим голову и начал осматривать новую пациентку.
Не будучи врачом, вряд ли возьму на себя смелость дословно передать ее состояние, каким его описал мой приятель. Тогда мне не было надобности записывать за ним, а память человеческая штука весьма коварная. Потому ограничусь лишь тем, что доктор констатировал весьма тревожное протекание родов, кажется, некоторое смещение плода (ах, впрочем не уверен в этом) и признаки истощения у будущей роженицы. Вместе с тем, он отметил незаурядную выдержку девушки и ее отменное природное здоровье. В конце же осмотра, достав рабочий блокнот, доктор Кулидж поинтересовался у мистера Дюпона, кем она ему приходится. Тут, к немалому удивлению моего друга ответила сама дама, до того не проронившая ни слова, отчего Огастес, покуда осматривал ее, даже решил, будто она не знает английского.
— Мы супруги, милый доктор, — произнесла она очень красивым голосом, совершенно впрочем вымотанным и кроме того, отличающимся неким странным акцентом. – Я очень благодарна вам, только…
Тут Артур Дюпон, этот столь суровый и таинственный джентльмен, с величайшим тактом и любовью коснулся пальцем ее губ, призывая замолчать и не тратить сил.
— Отдыхай, Изабелла, — произнес он и попросил доктора выйти.
— Мы действительно муж и жена, — продолжал Артур Дюпон, покуда они с мистером Кулиджем шли по коридору. – Я прибыл сюда с континента…
Он наполовину бельгиец наполовину англичанин. Он служил в наших колониальных войсках, вначале в Индии, откуда вывез верного денщика Ишу, потом на Золотом Береге, где долго воевал с проклятыми ашанти – дикарями, не знающими цивилизации, веры в Христа и понимающими лишь язык силы. Именно там он, обронзовевший в боях и лишениях воин, и нашел свою судьбу. Девушка-мулатка, по отцу голландка, прекраснее которой не встречал он никого в жизни, ответила ему взаимностью. Устав от лишений, Дюпон к тому времени твердо решил подать в отставку и, будучи человеком от природы нелюдимым, выбрал наш край для уединенного поселения. Он приехал сюда в сопровождении преданного Иши, обустроил поместье под собственный вкус и дождался, покуда явится из Африки его избранница. И еще он очень просит сохранять в тайне все, чему мистер Кулидж стал свидетелем, не в силу каких-то опасений, а лишь из уважения к образу жизни, им, Артуром Дюпоном, предпочитаемому.
Слушая этот краткий, в изложении спокойный, но на самом деле обладающий удивительной внутренней эмоциональностью рассказ, доктор, едва не прослезился. Как и всякий закоренелый холостяк, он был весьма неравнодушен к проявлениям чужого семейного счастья, и история таинственного соседа впечатлила его, задев наилучшие и сентиментальнейшие стороны его натуры. Мистер Кулидж мгновенно проникся уважением к Артуру Дюпону, отметив про себя, насколько же все благополучно разрешилось и как, подобно ему, впечатлятся обитатели Уайтхема, когда истории их нового соседа позволено будет стать общим достоянием. В этом кстати, Огастес Кулидж не сомневался ни минуты, полагая, что счастливое избавление супруги мистера Дюпона от бремени приведет к такому исходу самым естественным путем. И, подумать только, как легко и естественно объяснились смущавшие доктора странности: от угрюмого поведения Артура Дюпона, до его воинственных привычек и обстановки в купленном им доме! Действительно, чего еще ждать от человека, много лет отдавшего служению стране при самых опасных обстоятельствах и весь мир вокруг воспринимающего исключительно через призму войны?
И оно бы конечно ничего, но под занавес этого визита случился все же некий инцидент, вновь смутивший и в немалой степени настороживший моего друга. Итак…
***
Доктор уверил хозяина «Дома на холме», что завтра непременно явится к нему проверить состояние миссис Дюпон. Он даже попробовал отказаться от денег за первый визит, но не смог устоять перед решительностью мистера Дюпона и принял-таки от него пять фунтов.
Покуда Кулидж убирал ассигнации в портмоне, Артур Дюпон ушел вглубь холла и вскоре вернулся, неся небольшую статуэтку.
— Вот, — произнес он. – Примите это в дар, за вашу отзывчивость.
Видя, как стушевался доктор, хозяин дома буквально впихнул статуэтку ему в руки.
— У каждого рода ашанти есть свой хранитель, душа племени. Дикари верят, будто он приносит им счастье и дарует жизненную силу. Лишившись подобного тотема, они чувствуют себя обреченными и теряют всякую волю к сопротивлению. Просто потому, что хранитель решил уйти, явив тем недовольство их проступками. Хотя, — мистер Дюпон позволил себе усмехнуться, — вы в богов и сверхъестественное не верите.
— Разумеется, нет, — отвечал ему Кулидж, вертя из стороны в сторону и внимательно разглядывая подарок. – Более того, всегда и всех в наш век технического прогресса призываю отбросить глупые предрассудки. Библию давно пора заменить справочником по химии, а суеверия выжигать огнем из людских умов.
Подарок и впрямь оказался любопытный. Вначале, как ни был чужд мой отважный сердцем друг всяческим первобытным страхам, он взирал на статуэтку не без некоторого содрогания, но вскоре, надо отметить, привык к ее виду. Дар представлял из себя небольшого деревянного идола, примерно в фут высотою. Изображал он мужскую фигурку, очень тощую, с непомерно большой, вытянутой в длину головой и маленьким, съежившимся телом. Идол имел злобное, будто бы исковерканное гневом лицо, а в глаза его были вставлены красные камешки, придававшие ему облик поистине демонический. Какого бы бога ни подразумевала эта деревяшка, он отстоял от библейского Господа столь же далеко, сколь и пресловутый справочник по химии. Слегка поежившись, мистер Кулидж принял подарок и убрал его в саквояж.
— Боюсь, ашанти, по сию пору живущие обычаями прадедов, с вами не согласятся, — задумчиво произнес Артур Дюпон, — кто знает, может они и правы. Жаль, раньше я этого не понимал… Впрочем, отбросим пустые разговоры, до свидания! Иша проводит вас, я же вернусь к супруге.
Хозяин дома в эту минуту походил на сжатую пружину, которой достаточно придать лишь небольшое усилие и она распрямится со страшной силой. Чудовищное напряжение этот странный, явно неординарный человек пытался скрыть деланным спокойствием и любезностью, скорее подходящими общению в высшем свете. Несмотря на улыбку, с которой он старался говорить, его брови были постоянно сомкнуты, а высокий, загорелый лоб пересекала глубокая вертикальная морщина. Доктор Кулидж не мог найти объяснения столь стремительному изменению состояния мистера Дюпона, но подумал, что, наверное, неплохо бы собеседнику его пройти курс лечения от нервного истощения.
Погружен в такие мысли, он распрощался, вышел в ночь и приблизился к двуколке, собираясь подождать, покуда слуга не откроет ему ворота. Тут он отметил странное поведение лошади: она фыркала, нервно перебирала ногами и дергала шеей, одним словом, волновалась, причем весьма сильно. Мистер Кулидж пригладил ее и уже собрался сесть на облучок, как вдруг внимание его привлекло, нет, даже не шевеление, а примеченный краем зрения намек на него. Впереди, шагах может быть в десяти или около того, там, где начиналась увитая плющом ограда, кто-то был.
Огастес Кулидж замер, потом отложил в повозку саквояж и, ведомый чувством любопытства (порой столь глупым и причиняющими немало бед людям), осторожно направился к ограждению. Стоило ему немного пройти, как шорох повторился, а затем, в темноте, среди серых теней колышущихся на ветру ветвей изгороди вспыхнули и почти сразу погасли два огонька. То были чьи-то глаза.
Случилось это настолько быстро, что Огастес Кулидж от неожиданности вскрикнул, а лошадь его издала протяжный, удивительный, почти человеческий всхлип. Едва доктор повернулся к повозке, как дверь особняка приоткрылась и на крыльце вырос силуэт исполинской фигуры Артура Дюпона с ружьем наперевес.
— Что случилось?! – рявкнул он громовым голосом, позабыв о малейших приличиях, и его мой приятель испугался куда больше, нежели таинственного существа, обитавшегося за изгородью.
Мистер Кулидж залепетал нечто маловразумительное про лошадку и про шорохи и про глаза, но Артур Дюпон его уже толком не слушал.
— Иша! – заревел он снова. – Неси сюда свою тощую задницу, да поживее!
Потом хозяин поместья с ружьем наперевес подбежал к мистеру Кулиджу, буквально швырнул его в повозку и, кинув ему в руки поводья, помчался к воротам.
— Прощайте, доктор, уезжайте и не останавливайтесь! Завтра будьте тут непременно! – сказал он, и, обращаясь уже к Ише, выскочившему во двор, крикнул, — беги к задней стене, негодяй!
Мой приятель последовал данному ему совету со всем возможным тщанием. Он так припустил свою старенькую кобылку, что та вмиг домчала его до Уайтхема, прогрохотала копытами по мостовой, высекая искры и остановилась перевести дух лишь около дома почтенного доктора. Едва это случилось, как мистер Кулидж, такой рациональный, безоговорочно верящий в силу разума и науки, но совершенно ошеломленный и напуганный, пребывающий в странном смущении, добрался до кровати, скинул одежду и сделал единственно возможное в его ситуации. Он лег спать.
***
Следующим днем Огастес Кулидж перво наперво убедился в том, что события минувшего вечера ему не привиделись. Для этого он открыл саквояж и, несмотря на потаенную надежду на обратный результат, обнаружил внутри него статуэтку, подарок мистера Дюпона. Идол показался ему еще более неприятным, нежели при первом осмотре; грубое, губастое лицо его с толстым, приплюснутым носом внушало отвращение и напрочь отбивало аппетит (а доктор к еде относился трепетно). Поставив деревянного человечка в самый дальний угол надкаминной полки, посреди группы старых подсвечников, Огастес Кулидж, подобно вчерашнему, принялся размышлять над тем, стоит ли ему ехать к «Дому на холме», соответственно данному обещанию. В конце концов, придя к выводу, что во-первых, срочных дел у него на сегодня нет, во-вторых, верность слову украшает любого джентльмена, а в-третьих, и это важнейшее, его помощи ожидает молодая особа, готовая вот-вот разрешиться от бремени, он принял решение отправляться в путь.
Поспешно собравшись, мистер Кулидж сел в двуколку и двинулся к бывшему поместью Оуэнов. Ах, бедный, бедный приятель мой и сердечный товарищ, знал бы он, какое потрясение предстоит ему вынести! Да все испытанное им до того в жизни являлось наивной забавой в сравнении с тем, что ожидало его на сей раз…
Еще только свернув с главной дороги на подъезд к усадьбе, доктор предположил нечто неладное. Поскольку такое ощущение явно выпадало из его рациональной, строго научной точки зрения на окружающий мир, он передернул плечами и постарался о нем позабыть. Но, как бы то ни было, вскоре доктор убедился в необходимости доверять собственным чувствам. Глубинное, смутное беспокойство очень быстро обрело явственные очертания в виде ворот усадьбы, одна из створ которых была сорвана с петель, а вторая, в двух или трех местах чем-то насквозь продырявленная, жалобно скрипела, норовя упасть. Мистер Кулидж благоразумно остановил лошадку и, не забыв привязать поводья к ограждению, вооружившись неизменной тростью, тихонько заглянул внутрь двора. Ему конечно, вне всяких сомнений, отчаянно хотелось, чтобы там все было, как и вчера, и сюрприз с воротами стался бы тогда лишь глупой шуткой не в меру эксцентричного мистера Дюпона, но, увы, действительность оказалось совершенно иной.
Дорожку, ведшую к крыльцу, словно перепахало плугом; неведомая напасть раскидала в клочья цветники, вырвала несколько кустов и опрокинула кариатиду, отделив ей голову от гипсового туловища. Но самое ужасное состояло в прерывистой, кровавой борозде, тянувшейся по траве и загибавшей за угол дома, а еще в стреляных гильзах от охотничьих ружей, разбросанных в серьезном количестве тут и там. И еще, мистер Кулидж, погрузившись в воспоминания о тех минутах, упомянул дословно следующее: «в воздухе висел запах смерти». Понятное дело, наличие такого нехорошего аромата с позиций химии и здравого смысла объяснить невозможно, но образное выражение друга я запомнил прекрасно.
Надо отдать должное, несмотря на забавную и порой тем вводящую в заблуждение внешность доктора Кулиджа, в критических ситуациях он мог иногда проявить некоторые решительность и храбрость. Я сам был очевидцем, того, как хладнокровно вырвал он клещами зуб у мистера Керби, сходившего с ума от дикого флюса и потому знаю, о чем говорю. Вот и прибыв к дому Артура Дюпона Огастес Кулидж показал себя в меру отважным человеком.
Почему-то он не пошел сразу в дом, хотя наверное это и было бы самым оправданным с позиции логики поступком. Нет, доктор Кулидж, в ту, первую минуту поступил иначе. Он направился по страшному следу, уводившему за правую стену дома. Казалось, будто некто тащил что-то весьма тяжелое, притом, судя по скоплениям крови, пару раз останавливался и снова возобновлял свой путь. Нацепив пенсне, полусогнувшись и чувствуя, как дрожат от страха поджилки, с палкой наперевес Огастес Кулидж продолжал идти и в конечном итоге зашел за тыльную часть особняка. Там, сбоку, вплотную к изгороди росло дерево: могучий дуб с раскидистыми ветвями. В нескольких шагах до него следы крови обрывались.
Мистер Кулидж на несколько мгновений застыл в растерянном недоумении, а после, озаренный внезапно мелькнувшей догадкой, поднял голову. Сверху, с высоты десяти или двенадцати футов, остекленевшим, немигающим взглядом мертвого человека на него смотрел слуга Артура Дюпона, Иша.
Тело индийца, истерзанное в клочья, без правой руки, с внутренностями, свисающими подобно новогодней гирлянде, было перекинуто через ветку дуба. От одной мысли о мучениях, испытанных несчастным в последние мгновения жизни, приятелю моему стало дурно и он, как стоял себе, так и рухнул наземь от испытанного потрясения. Трясущимися руками, Кулидж отыскал в саквояже склянку с нашатырем и вдохнул его поглубже. Когда голова прояснилась, он, пошатываясь встал и побежал обратно, ко входу в дом, ругая себя за то, что не поступил так с самого начала. Где-то там, внутри, могла находиться миссис Дюпон и каждая минута промедления рисковала оказаться роковой для нее и плода ее.
Дверь, на счастье, оказалась не заперта, а потому Огастес Кулидж спокойно проник внутрь. Миновав разбросанные в страшном беспорядке статуэтки, щиты, маски, сушеные человеческие головы и едва не ступив в огромное, красное, загустевающее пятно у лестницы, он влетел на второй этаж.
Там, посреди коридора, лежал Артур Дюпон, на груди которого распластался страшный зверь — огромная кошка с пятнистой шерстью и очень длинным хвостом. Пасть ее сомкнулась на шее мистера Дюпона, его же рука сжимала рукоять кинжала, торчащего из мускулистого загривка хищника. Оба, вне всякого сомнения, были бездыханны.
Что же случилось здесь, какая драма разыгралась? Разумеется, приятель мой, как человек, не лишенный проницательности, сразу вспомнил и вчерашнюю сцену с двумя огнями, вспыхнувшими в темноте подле изгороди и волнение лошади, а что еще могло вызвать его, как не предчувствие дикого зверя? Вот только не водятся в лесах старой, доброй Англии твари, подобные той, какую ценой собственной жизни поверг Артур Дюпон…
Доктор, зажмурив глаза, аккуратно, по стеночке, обошел тела и заглянул в комнату, где всего несколько часов назад общался с беременной супругой покойного. Там было пусто и, как и везде в доме, царил страшный беспорядок: постель разорвана в клочья, будто бы кто-то, быть может, та самая кошка, скакала по ней, терзая ее когтями и клыками, шкаф и стулья опрокинуты, обои лоскутами повисли на стенах.
— Миссис Изабелла! Миссис Изабелла, отзовитесь, прошу! – закричал Кулидж.
Без особой надежды позвав пациентку еще несколько раз, он решил скорее вернуться к повозке, дабы стремглав лететь в город за помощью.
Доктор спустился обратно вниз и направился было к выходу, молясь об одном только, — чтобы лошадь его еще стояла живой там, где была оставлена, — как вдруг услышал некий звук. Поначалу он решил, будто издает его дикий зверь (ведь кто знает, сколько еще поблизости таких кошек?), но когда звук повторился, понял, насколько сильно ошибся. То был слабый, исполненный страдания стон, доносившийся из глубины дома на первом этаже. К чести моего друга, отмечу, что он нашел в себе силы исследовать природу этого стона и направился в его сторону.
Повсюду, куда бы ни ступила нога, обнаруживал мистер Кулидж страшный хаос, следы борьбы и разрушения. В столовой увидел он собаку Артура Дюпона. Могучий черный пес был почти что перекушен пополам, явно столкнувшись с силой, многократно превосходящей его собственную. И почти сразу затем обнаружился источник привлекших доктора стенаний, ибо перед ним явилась Изабелла.
Несчастная женщина буквально вывалилась из какой-то маленькой кладовки и пала перед доктором на колени. С усилием подняв голову и обратив на Огастеса Кулиджа исполненный страдания взгляд, она нашла в себе силы вымолвить: «Помогите, ради бога, умоляю вас…», затем ее тело сотряс нервный пароксизм и она лишилась чувств.
***
Ах, какие треволнения начались в нашей тихой заводи! Кто бы мог подумать, что местечко, где даже ветер дует исключительно деликатно, боясь потревожить чужой покой, окажется в эпицентре подобных событий! Нечего и говорить, случившееся в «Доме на холме» затмило собой историю с принцем Рупертом, заставило позабыть мелкие сплетни, овладело сознанием всех без исключения горожан и поглотило все их внимание. Но, одновременно, нужно отметить, сие событие послужило и причиной стыда, тревог и бесконечных опасений. Судите сами, Уайтхем ославился на всю Англию, газеты наперебой трубили о таинственном происшествии, полицейские чины, детективы-любители, праздные любопытствующие заполонили окрестности и никому из нас житья не давали. Хуже всего пришлось конечно доктору Кулиджу. Мой друг, обычно столь спокойный и уравновешенный, столь трезвомыслящий и честный, еле успевал отбиваться от бесконечных и в основном бестолковых вопросов, рассуждений, спекуляций на тему своего участия в тех событиях. Помимо того, немало хлопот ему доставила ситуация с миссис Дюпон, беременность которой оказалась осложнена пережитыми испытаниями. Доктор поместил ее у себя в доме, выделив ей отдельную комнату и поневоле посвятил уходу за ней большую часть свободного времени.
Примерно через неделю после ужасного происшествия Изабелла Дюпон разрешилась от бремени. Роды прошли в условиях строжайшей тайны, ибо город все еще наполняли толпы приезжих. На свет появился очаровательный мальчуган, с темной кожей, тугими кудряшками и пронзительно синими глазами. Как сказал мистер Кулидж, с учетом происхождения миссис Дюпон это вполне нормально и вероятно, в скором времени дитя посветлеет.
К огромному сожалению, Изабелла Дюпон не могла вспомнить ровным счетом ничего ни из своей прошлой жизни, ни из случившегося после отъезда мистера Кулиджа роковой ночью, ставшей последней для ее супруга. Однажды кто-то из господ полицейских попытался бесстыдно наглым образом выпытать у вдовы крупицы информации, но Кулидж просто выставил его из дому. Доктор после уверил меня и тех из жителей Уайтхема, с кем был особенно близок и кому доверял, что подобная амнезия является следствием испытанного женщиной шока и лечится покоем. Оставалось лишь надеяться, что память вернется к ней.
Время шло и городок постепенно избавился от нашествия. Причиной тому послужило как естественное ослабление внимания общества, так и очередное (как выяснилось далее, последнее), особенно жестокое преступление знаменитого лондонского убийцы – Джека Потрошителя.
Расследование, проводимое столичной полицией ни к чему не привело. Единственное, что смогли установить многочисленные инспектора Скотланд-Ярда, занимавшиеся смертью мистера Дюпона, так это то, что он со слугой пали жертвой африканского леопарда. Эти выводы впрочем, были совершенно очевидны; откуда же взялся зверь, полицейские чины ответить так и не смогли, но уверили общество в продолжении начатых изысканий. Странное поведение покойного они совершенно проигнорировали, потому как, судя по всему, объяснить его не имелось абсолютно никакой возможности, а потому проще оказалось сделать вид, будто его и не было.
Огастес Кулидж, несмотря на испытанное им колоссальное потрясение, старался делать вид, будто все остается по-прежнему. Он принимал клиентов у себя в кабинете, совершал регулярные прогулки, правда теперь не такие продолжительные, как прежде, и все так же любезно раскланивался со встречными, только вот почти перестал вести с ними продолжительные беседы. Затем, в один прекрасный сентябрьский день он пропал и никто поначалу не понимал ни причин ни сроков его таинственного исчезновения. Как вскоре выяснилось, Изабелла Дюпон тоже покинула город, но исчезла она с нашим доктором или отдельно от него, известно не было. Экономка Кулиджа, миссис Оллсоп на все расспросы лишь беспомощно разводила руками, обращавшихся за медицинской помощью адресовала доктору Паркинсону из Грешема, мне же с оказией тайком передала записку, шепнув, от кого она.
Оказавшись наедине, я прочитал ее и вот каково содержание этой бумаги:
«Дорогой Л., вынужден срочно покинуть Уайтхем вслед за миссис Дюпон. Направляюсь в Лондон, дабы выполнить до конца одну миссию, в которую оказался невольным образом вовлечен. Если мы никогда не увидимся, то незнание Ваше о причинах моего отъезда будет лишь во благо, в случае же моего возвращения, означающего благополучное завершение той самой миссии, Вы получите полное право удовлетворить свое любопытство. Всегда искренний и верный Ваш слуга, О. Кулидж».
Смущению моему не было предела.
Отъезд доктора, вначале представлявшийся непродолжительным, вскоре перевалил за неделю и вот уже незаметно подступил октябрь. Говоря откровенно, я успел мысленно распрощаться с Огастесом Кулиджем и строил только различные гипотезы такого его поведения, от всамделишней опасности и до умопомешательства, но тут доктор вернулся. Был он очень странен: тих, необычно, философски даже, спокоен и совершенно сед.
Прежнего Огастеса Кулиджа теперь не было, а новый, придя ко мне, поведал вот что.
***
Однажды, наверное, дней через пять или семь после того, как миссис Дюпон родила, к доктору заявился некий посетитель. Многие люди — и местные, и пришлые, — тогда по известным причинам весьма упорно пытались навязаться моему приятелю, и он невольно вынужден был решительнейшим образом охранять собственный покой. Его экономка не впускала никого, за исключением меня, еще пары близких знакомых доктора и наиболее тяжких пациентов. Вот и данному господину она вежливо, но настойчиво посоветовала удалиться и не тревожить мистера Кулиджа. Тот не стал настаивать, а лишь попросил передать доктору визитку и был таков. Его просьба буквально тут же оказалась исполнена, так как было раннее утро и настало время завтрака, а к завтракам Огастес Кулидж, этот истинный поборник здорового образа жизни, относился в высшей степени внимательно. Представленная ему карточка очередного незваного гостя гласила: «Седрик Милн. Эсквайр»; на обороте ее имелась приписка от руки: «Мистеру О. Кулиджу. Я друг покойного А. Дюпона и миссис Дюпон. Не сочтите за труд, испросите ее обо мне. С Вашего позволения, повторю визит сегодня в пять пополудни». Кулидж, по достоинству оценив проницательность эсквайра, направился в комнату миссис Дюпон и осведомился насчет поименованного господина, думая, не освежит ли ее память это имя.
Изабелла Дюпон некоторое время силилась вспомнить такого человека и наконец, хотя и не уверенно, сказала, что очень и очень смутно припоминает его. Подобный поворот сулил некоторые надежды на восстановление прежнего состояния несчастной и ободренный доктор решил принять гостя.
Мистер Милн явился ровно в указанное в записке время, в пять часов вечера. Он оказался человеком одних примерно лет с Дюпоном, крепко сложенным, очень загорелым, с мужественным лицом, пересеченным по левой стороне ото лба и до подбородка тонким белым шрамом.
Видимо этот человек владел природным даром располагать к себе людей, поскольку доктор буквально сразу же, стоило ему лишь пожать его сухую, твердую ладонь, проникся к нему уважением и искренним доверием. Кроме того, мистер Милн обладал исключительной выправкой и статью, а все манеры его отличались поразительной простотой, столь отличной от тщательно скрываемой высокомерности и настороженной отстраненности, каковые позволил себе заметить Огастес Кулидж у супруга миссис Изабеллы.
Представившись, мистер Милн попросил предоставить ему возможность увидеть вдову и ее дитя и очарованный доктор, сразу препроводил его к ней.
Миссис Дюпон поначалу взирала на незнакомого ей господина с недоумением и даже настороженностью, но вот, во взоре у нее мелькнуло нечто такое, что доктор охарактеризовал как «искра пробуждения», после чего в уголках глаз появились слезы и стало очевидно – она, если не вспомнила, то во всяком случае, начала вспоминать. Умилившись такому повороту дел, сообразуясь с чувством природного такта, мой благородный друг не стал более присутствовать при столь сердечной встрече и удалился.
Час спустя сияющий мистер Милн спустился к доктору в гостиную, где между ними, за чашкой чая произошел разговор такого содержания:
— Пожалуй, от Лондона до Эдинбурга не найти газеты, которая не написала бы про Уайтхемского зверя. Едва я узнал об ужасной участи моего боевого товарища, Артура Дюпона, как сразу поспешил сюда, — начал, махнув рукой, Седрик Милн. – Больше всего на свете ценю я благородство в словах и поступках и если за душевное величие станут производить когда-либо в рыцари, уверен, вы станете первым.
Скромность всегда украшала Огастеса Кулиджа, но, порой лишала его возможности нормально говорить. Он засмущался, покраснел и пробормотал слова благодарности. Милн снисходительно и с доброй улыбкой выслушал его, после чего продолжил:
— Год назад я подал в отставку и прибыл сюда из Западной Африки. Может статься, вы знаете из прессы о Золотом Береге, новой колонии Ее Величества и о том, какие испытания приходится переживать там нашим доблестным войскам.
— В силу интересов своих, — отвечал ему мистер Кулидж, — я читаю в основном периодические естественно-научные издания, вроде «Философских трудов королевского общества», да избранных писателей. О Золотом Береге я впервые услышал от покойного ныне мистера Дюпона и то мельком.
Тут друг мой неожиданно для себя же слегка покривил душой: ему неожиданно стало очень стыдно признаться, как он зачитывался порой столичными таблоидами, пытаясь отвлечься от однообразия нашей сельской идиллии. Впрочем, это вполне извинительно: кто же не грешит подобным, несмотря на всю любовь к родному захолустью? Седрик Милн одним глотком допил чай и, вознеся чашку подобно кубку с вином, воодушевленно сказал:
— Когда-нибудь мир узнает правду о войне, что вела матушка Британия с племенами диких ашанти и благородство наших героев в борьбе с варварами будет воспето и оценено по достоинству!
— Уверен в этом! – с не меньшим пылом произнес Огастес, самолично налил собеседнику добавки и подвинул поближе корзинку с овсяным печеньем. Тот, в свою очередь погрузился в пространные, но вместе с тем, чрезвычайно занимательные воспоминания и размышления о событиях, произошедших с ним за годы службы в королевских войсках в колонии под названием Золотой Берег.
Вот как запомнились они доктору Кулиджу.
***
— Я и Артур Дюпон давненько познакомились, лет наверное двадцать тому. Вместе прошли огонь, воду и медные трубы, служили в Пятом Линейном полку Ее Величества, а это знаете ли, не шутки. Мы оба страстно мечтали сделать карьеру, заслужить воинскую славу, получить уважение. Для Артура это было особенно важно: сын эмигранта, полукровка, чужой в обществе, он мог рассчитывать только на армию. И он проявил себя, поверьте на слово: отчаян был как черт, не знал ни страха ни горя и не верил, признаюсь честно, ни в Господа Бога ни в его визави. Вначале мы на пару тянули лямку в Пенджабе, выбились в лейтенанты, а потом полк откомандировали в район Аккры, столицы Золотого Берега.
Там вдоль побережья с давних пор проживают белые: и англичане и голландцы и датчане, а дальше, в буше обитают дикие людишки, из коих самые что ни на есть гадкие – это ашанти, будь они неладны. Дурной народец, доложу Вам, поганый и никчемный. Кроме как грабить и прочими способами досаждать честным людям, больше ничего не умеют. Развязали с нами настоящую партизанскую войну, оттого пришлось проучить их, как следует. Скольких поубивали, сосчитать невозможно, да наверное и не нужно (тут мистер Милн решительно рубанул ладонью воздух).
Впрочем, шут с ними! Таким по земле и ходить не следует! Отсталые, законов божеских не знают и представляете, по сию пору верят в магию. В тех краях в каждой проклятой деревне можно найти иссохшего в мумию старика или безобразную старуху, до которых местные бегают при любой беде. Они полагают, будто поколотить в барабан и прокричать в ночи какое заклинание страшным голосом достаточно, чтобы вызвать дождь или наоборот, наслать засуху, погубить чужую скотину, а то и проклясть человека, наслав на него безумие. Своих колдунов ашанти уважают и боятся, особенно тех, которые якобы могут превращаться в зверей. Леопардов к примеру или там, крокодилов…
Мистер Кулидж, сам человек сугубо мирный, слушая рассказ бывалого вояки даже несколько замечтался, как бывает увлекается от подобных вещей всякий, у кого приключений в судьбе не сильно много. Перед внутренним взором его пронеслись стремительным вихрем жаркие схватки в накаленных зноем равнинах, прекрасные дамы, коих, разумеется, нужно спасать, таинственные народы, чьи полуголые воины крадутся в темноте… Но и то и другое и третье — все было лишь в воображении моего товарища; стоило же ему услышать одно тревожащее его исподволь слово, он словно очнувшись, рассеянно переспросил:
— В кого, в кого, простите, могут превращаться?
— В леопардов, — с абсолютно невинным видом повторил мистер Милн. – Колдун ложится в укромном месте, а душа его вселяется в дикого зверя и тогда он пребывает как бы в обоих ипостасях одновременно. Это трудно объяснить и еще труднее понять нам, цивилизованным людям, но ашанти свято верят – подобное возможно. Ночами, превращенный в облике хищника выходит на охоту, чтобы убить обреченного им на смерть человека – обидчика, нарушителя табу, вора, да мало ли кого. И горе такому несчастному, не будет ему покоя, смерть будет красться по следам его…
Тут, видя недоумение на лице доктора, мистер Милн оглушительно расхохотался и опять же, характерно разрезав воздух ладонью, произнес, заговорщически подмигнув:
— Полно, дружище! На эти байки ведутся только наивные глупцы, но мы то с вами не такие, верно? От колдунов, тамтамов и проклятий мало проку, когда говорят пушки.
Сказано это было до того уверенно и со знанием дела, что сгустившаяся было тревога начала рассеиваться, однако доктор Кулидж, желая увериться в правильном понимании собеседника, с осторожностью сказал:
— Знаете, при нашем с мистером Дюпоном знакомстве, он говорил именно о проклятье, причем донельзя обреченно.
— Пустое, — отмахнулся Седрик Милн. Ему, отметил доктор, вообще нравились подобные жесты, всего скорее потому как сильно походили они на взмахи саблей, к которой он несомненно привык за годы службы. – Вот удар ассигаем по лицу, это да, это сила (явный намек на собственный шрам, решил доктор), слова же, так, мусор. Я видел многих друзей, павших от копий и палиц врага и ни одного, кого сразило бы черное волшебство. Но и мы накладе не остались, поверьте; если же говорить об Артуре Дюпоне, то он, уверяю, особенно отличился в той войне.
Тут мистер Милн склонил упрямую, круглую голову и замолчал, будто задумался о чем-то тягостном. Доктор, дабы развеять неудобную паузу, поинтересовался:
— Почему в таком случае, он не продолжил службу, разве удачная война не повод делать карьеру?
— А он влюбился, — несколько рассеянным тоном молвил Седрик Милн. – Представляете, без памяти увлекся дочкой одного богатого плантатора, ван Вейка, из голландских переселенцев и потерял покой и сон. Зажил себе на ферме, превратился в настоящего домоседа и совершенно позабыл о прошлой бесшабашной жизни. Вскоре старик ван Вейк помер, все его богатство досталось миссис Изабелле и тут Артур возьми, да и соберись сюда, в самое сердце Англии. – Милн опять задумался, но мгновение спустя добавил, — словно волной его погнало…
В этих словах содержался намек на некие обстоятельства, возможно скрытые от всех, но оказавшие серьезное влияние на поступки покойного Дюпона и доктор, обрадованный такому внезапному подтверждению собственной проницательности, с жаром подхватил:
— У него явно имелся повод, причем веский. Ваш друг словно опасался чего-то, может статься, того, что считал тем самым проклятьем. Предрассудок, нелепый и необоснованный, понимаю, но прожить столько лет среди дикарей и не потерять веру в торжество науки, сохранив здравое мышление, крайне сложно.
Огастес Кулидж непозволительно увлекся. Лишь окончив эту тираду, он отметил несколько неодобрительное выражение лица мистера Милна.
— Прошу прощения, — виновато сказал мой товарищ. – Я склонен иногда к поспешным выводам, да и вам, так долго отсутствовавшему дома, верно не очень приятны подобные рассуждения.
— Мне сие безразлично, — отвечал ему Седрик Милн. – Позвольте лучше вернуться к цели визита. Несчастная Изабелла осталась совершенно одна и не может вечно злоупотреблять вашим гостеприимством. Раз уж волей случая я оказался тут, мой долг оградить ее и дитя от опасностей и невзгод. Она непривычна к здешней обстановке и явно ощущает себя чужой, а потому попросила помочь ей вернуться обратно, в Аккру. Считаю святой обязанностью, как друг ее покойного мужа, как джентльмен в конце концов, помочь ей и насколько возможно скорее.
Признаться, доктор и сам уже задумывался о дальнейшей судьбе нежданной пациентки. Туманное будущее миссис Дюпон сильно волновало его, но тут вдруг все разрешилось прекраснейшим образом и без малейших усилий с его стороны. Мистер Милн явил столь высокое благородство мыслей и намерений, что доктор внутренне без боя уступил ему рыцарский титул в награду за душевное совершенство, коим тот в свою очередь заранее почтил его самого.
Обрадовавшись такому повороту, он принялся обсуждать с гостем детали скорого отъезда молодой вдовы. В итоге, сговорившись увидеться послезавтра, мистер Кулидж и мистер Милн раскланялись друг другу и доктор отправился провожать нового знакомого.
Он был совершенно уверен, что разговор с гостем подошел к логическому концу, но сильно ошибся. Беседа обрела второе дыхание, более того, сделала такой финт, какого Огастес Кулидж и предполагать не смел.
Мистер Милн, этот харизматичный, обладающий поразительной уверенностью в себе господин, столь восхитивший любезного доктора, начал было спускаться с крыльца в сторону поджидавшего его экипажа, но вдруг обратился к мистеру Кулиджу с вопросом:
— Вот кстати позабыл спросить любезный доктор, а не случилось ли чего странного в общении между вами и моим сердечным другом Артуром Дюпоном?
— Странного? — вполне резонно озадачился Огастес Кулидж. — Знаете ли, вообще все наше общение было весьма необычным.
— Тогда, что показалось самым странным?
Доктор в коротком раздумье погладил затылок, а после сказал:
— Он сделал мне подарок.
— Подарок? Какой именно? — Мистер Милн заметно напрягся.
— Куклу, статуэтку, ээээ… — приоткрыл рот, подбирая нужное слово Огастес Кулидж. – Идола. Некую деревянную фигурку божка с большой головой и страшной рожицей. Да, постойте, я принесу ее сейчас, лишь только соображу, куда успел засунуть…
— Нет, нет, — остановил его мистер Милн. – Не нужно утруждать себя, тем более, в отличие от Артура, я никогда не увлекался всеми этими туземными штуками. Но, довольно, — резко перескочил он на новую тему, — Через день к полудню я вернусь за миссис Дюпон и мы покинем ваш прекрасный город. Приятно познакомиться.
С этими словами Седрик Милн по-армейски крепко пожал пухлую ручку Огастеса Кулиджа.
Отставной капитан уже садился в кларенс, когда его настиг вопрос доктора.
— Прошу меня простить, мистер Милн, я кажется не дал вам закончить мысль. Так какая волна, по-вашему, погнала Дюпона сюда в столь великой спешке?
— Хм, — произнес Седрик Милн. – Хм… Видите ли, Артур уверял, будто его стали преследовать леопарды.
И оставив доктора в некотором недоумении от этой фразы, прозвучавшей абсолютным диссонансом всему, сказанному им ранее, он закрыл дверцу экипажа, после чего был таков.
***
Весь остаток дня и день следующий мистер Кулидж целиком посвятил уходу за вдовой несчастного Артура Дюпона и ее малышом. Им предстояло длительное, но абсолютно необходимое путешествие, а педантичный нрав моего друга обязывал его досконально проверить здоровье матери и дитя, тем более, что роды прошли при весьма тяжелых обстоятельствах. На счастье, состояние Изабеллы Дюпон, а равно и ее выдержка были на высоте. Мальчик тоже чувствовал себя прекрасно. Огастес пришел к выводу, что лучшего и желать нельзя, если только не принимать во внимание амнезию молодой женщины. Доктор периодически осторожно, так сказать подкрадывался к миссис Дюпон с расспросами относительно обстоятельств ее жизни, но память к ней возвращалась как бы частями и была подобна рваному одеялу. Она вспомнила, например, немногое из своего детства, проведенного в Африке, знала, что состояла в счастливом браке и Седрик Милн ей оказался вполне знаком, более того, высказывалась она про него с большой симпатией; в остальном же прошлое Изабеллы оставалось погруженным в темноту. В конце концов, мой друг отказался от этих попыток, несмотря на возникшее искушение применить в терапевтических целях на Изабелле Дюпон методику гипноза месье Льебо, о которой он так много читал в последнее время.
Надо отметить, несмотря на постоянные заботы и хлопоты, мистера Кулиджа не оставляло чувство смутной, невыразимой словами тревоги. Он упорно гнал ее от себя, как всякий уверовавший в науку человек, тысячу раз за день повторяя, что просто обязан быть свободным от предрассудков, но чутье грызло и грызло его исподволь, а любому известно — когда оно не утихает, голос разума становится ничтожен, несмотря на все свои аргументы.
Новая ночь принесла доктору временное облегчение, а утро, казалось, предоставило очередное доказательство правоты в стремлении сдуть мистический налет со всей той истории, в какую он невольно оказался вовлечен. Дело в том, что за завтраком, покуда миссис Дюпон и ее дитя еще спали, экономка подала ему свежую газету — «Таймс», а может и «Фэмоуз Краймс», — во всяком случае, Огастес их обе точно выписывал. В газете содержалась заметка о раскрытии тайны Уайтхемского леопарда. Со ссылкой на знаменитого сыщика Скотланд-Ярда Фреда Эбберлайна статья утверждала, дескать мистер Дюпон стал жертвой несчастного случая: его вместе со слугой загрыз зверь, сбежавший из бродячего цирка, как раз проезжавшего наши окрестности. Владелец цирка признал факт исчезновения дикой кошки и даже опознал труп хищника.
На первый взгляд, вот, тайна раскрыта и сомнения можно смело отбросить прочь, но они почему-то не отбрасывались. Мистера Кулиджа волновали и странное поведение Артура Дюпона и обстановка в его доме и не менее странные высказывания Седрика Милна, особенно же, произнесенное им вчера при прощании.
Между тем, Изабелла Дюпон и ее ребенок пробудились, затем незаметно и в заботах прошло время до полудня и наконец явился мистер Милн. Он более не вспоминал об Артуре Дюпоне и лишь во время пустой по смыслу, но полной любезностями беседы с доктором Кулиджем бросил взгляд на вышеупомянутую газету. По виду собеседника мой товарищ понял, тот знаком с содержанием статьи и вполне доволен им.
Когда очаровательная вдова со слезами благодарности на глазах обняла на прощание доктора и его экономку и уселась с малышом в экипаж, Огастес Кулидж совершил вторую, впрочем весьма робкую попытку расстаться с подарком, сделанным ему несчастным Дюпоном.
— Быть может, мне стоит вернуть миссис Изабелле преподнесенную ее мужем статуэтку? – спохватился он.
— Нет-нет, не стоит, — с некоторой поспешностью отвечал ему отставной капитан. – Если уж она так не нравится Вашей милости, то избавьтесь от нее иным способом: сожгите, закопайте, а лучше всего, подарите кому иному. Подобных безделушек осталось полно в доме Артура и поверенный, который займется его продажей, вынужден будет выкинуть или спалить их все.
Тут мистер Милн по примеру миссис Дюпон тоже приобнял доктора, чем вызвал у моего друга, не привыкшего к такому теплому выражению чувств, некоторую оторопь.
— Как странно, — успел молвить Огастес Кулидж. – Я чувствую себя так, будто не знаю чего-то, безусловно известного вам, сударь…
— Прощайте, милый доктор! – громко сказал мистер Милн, явно пропустив мимо ушей этот пассаж, и карета его тронулась в путь.
Кулидж провожал экипаж взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Затем он вернулся домой и углубился в чтение обожаемого им диккенсовского «Дэвида Копперфилда», надеясь обрести внутренний покой.
Бедный, несчастный мой друг и товарищ, он и не полагал еще, что тот самый покой потерял навсегда…
***
На исходе дня с Огастесом Кулиджем произошло нечто весьма необычное.
Поначалу вечер не предвещал ничего особенного. Доктор мирно поужинал и немного поболтал с миссис Оллсоп, очень беспокоившейся за то, как Изабелла Дюпон и ее сын перенесут долгую и трудную дорогу. Дама весьма впечатлительная, она долго сокрушалась по этому поводу и доктору стоило немалых усилий убедить ее, что все для их подопечной складывается наилучшим образом. В конце концов экономка согласилась с доводами моего друга и отправилась спать, а Кулидж пока остался в гостиной.
Читать ему более не хотелось, сон упорно не шел и потому он долго ходил из угла в угол, слушая, как трещит пламя в камине и стучат по крыше струи начавшегося к ночи дождя. Мысли мистера Кулиджа против обыкновения находились в состоянии не то чтобы хаоса, а некой неупорядоченности, перескакивали с одного на другое и, как он ни старался, куда не переводил бы свое внутреннее внимание, все время будто поневоле возвращались к подарку Артура Дюпона. Неведомый божок его ужасно раздражал, скажу более, необъяснимо и иррационально пугал чем-то и доктор не мог найти объяснения подобному отношению к экзотическому, но казалось бы вполне обычному подарку.
В конце концов, Огастес Кулидж не выдержал и, найдя спрятавшуюся меж подсвечников статуэтку, бросил ее в огонь. Только тогда он немного успокоился и смог отвлечься на изучение некогда собственноручно составленного гербария, но стоило ему случайно посмотреть на камин, как выяснилось, что африканская деревяшка решительно отказывается гореть.
Божок лежал себе среди пылающих головешек как ни в чем не бывало и все попытки изменить ситуацию, прикопав его углями или задвинув в самую глубь огня, не дали ровным счетом никакого результата.
Тогда, смущенный до крайности, мой друг выудил идола кочергой из камина и обнаружил, что тот даже не нагрелся. «Вот незадача», – подумал Огастес, возвращая божка на каминную полку с тем, чтобы утром, на свежую голову разобраться, как с ним поступить. Ну, а потом произошло оно, то самое необъяснимое.
Итак, вознамерившись задернуть шторы, доктор подошел к окну гостиной, выходившему на задний дворик дома. Там, шагах в десяти от стекла, на границе лужайки и аккуратно выстриженных кустов барбариса, сидела огромная кошка. Света лампы в гостиной вполне хватало, чтобы отчетливо видеть ее и даже вполне различать характерные для леопарда пятна по всему телу.
Мистер Кулидж зажмурился и потряс головой, полагая, что может быть показалось ему от переутомления или под впечатлением бесед с Седриком Милном или вообще, от всего вышеуказанного вместе; но нет, кошка никуда не делась. Более того, она поднялась и неторопливо приблизилась к окну до того близко, что стекло даже запотело от ее дыхания. Зверь бесшумно оскалился, явив длинные, желтые клыки, а Огастес принялся пятиться назад, не переставая трясти головою и чувствуя, как от страха переполняется его мочевой пузырь. Казалось, леопард вот-вот бросится внутрь, невзирая на преграду и тогда, все конец, спасения не будет, но тут снаружи громыхнуло так, что стены задрожали! Мистер Катхилл явно перебрал с ночным пуншем.
Доктор, вскрикнув, натолкнулся на кресло и упал вместе с ним навзничь. Он сразу (насколько возможно для его полного сложения) вскочил, но кошки за окном уже не было, и тогда мистер Кулидж поступил подобно прошлому разу, когда столкнулся с чем-то пугающим. Он кинулся в спальню на втором этаже, запер ее на ключ, дверь подпер стулом и бросился в кровать, как был, в одежде и обуви.
Немудрено, будучи врачом он верил, что сон лечит, причем буквально все. Ну, или почти.
Увы, на сей раз уверенность доктора оказалась поколеблена. Ночью было ему странное видение, подобного какому ни разу до того не случалось. В нем он бродил по туманному, черному лесу, холодному и мокрому от дождя и все никак не мог выбраться из него. Он был полон уверенности, что рядом, всего в нескольких шагах непременно отыщется дорога, но та решительно не желала находиться и блуждания его постепенно становились бесконечными. В один момент доктор осознал, — за ним следят, причем откуда-то сверху — и оглядываясь в желании обнаружить объект беспокойства, заметил среди ветвей одного из деревьев существо, похожее на большую кошку с очень длинным хвостом.
Леопард! Буквально выкрикнул Огастес Кулидж, вспоминая позднее тот сон. За ним во сне следил дикий зверь с далекого африканского берега! Следил и готовился к прыжку, а после… Не мог вспомнить мой друг это самое после, как ни силился и не тер недоуменно ладонью шею свою.
Утром, еще до чтения свежей прессы, Огастес Кулидж обследовал участок дворика, где наблюдал леопарда. К его огромному сожалению, дождь шел ночью не переставая и если кошка и оставила на лужайке какие следы после себя, то вода свела их на нет. Любой иной, менее обстоятельный человек всего скорее тем бы и ограничился, но доктор, хотя и проявлял порою слабость и неуверенность, свойственные впрочем любому из нас, отличался однако замечательным упорством. Он буквально на коленях облазил кусты барбариса и обнаружил среди них, в местах, куда не смогла попасть влага, отпечаток огромной лапы, а еще клочок черно-рыжей шерсти, зацепившийся за ветку.
Картина мира, так долго и с таким тщанием выстраиваемая долгие годы Огастесом Кулиджем в собственном сознании, дала решительный крен. В ней не было места необычайному, странному, необъяснимому с железных позиций логики, подкрепленных достижениями человеческого разума. Эта, усиленно сберегаемая картина начала трещать по швам еще несколько дней назад, а теперь вот стремительно и неудержимо рушилась и изменить сей процесс не было никакой возможности. Тогда-то он, по собственному признанию и стал клониться к мысли покинуть Уайтхем.
В городке нашем впоследствии много рассуждали и строили целые теории относительно причин, побудивших доктора Кулиджа уехать, да еще с такой удивительной поспешностью и скрытностью. Особенно в этом преуспел мистер Сэмюэл, некогда подвизавшийся секретарем в одном столичном министерстве, а потому совершенно уверенный в собственном знании как политики, так и тайн человеческих душ (хотя, в упор не пойму связь этих явлений между собою). Так вот, мистер Сэмюэл выдвинул в ходе беседы с миссис Баркли версию, дескать мистер Кулидж проникся любовью к спасенной им даме, то есть Изабелле Дюпон, а когда та упорхнула у него, так сказать из под носа, решился водворить ее силой в собственный дом, для чего отправился в дерзкую погоню. Большей нелепицы и придумать было нельзя. Она представляется мне целиком следствием воздействия на воображение означенного господина бульварных романов, выписываемых им из Лондона в неприличном для джентльмена количестве. Правда же, и это я знаю теперь из первоисточника, превосходит любую выдумку.
***
Еще примерно сутки Огастес Кулидж провел в душевных сомнениях. Промедление в действиях свойственно порой и самым отчаянным натурам, а он, при всем к нему уважении, к таковым не относился. Вчерашние неудачные попытки избавиться от столь неосмотрительно принятого подарка, появление в саду зверя, совершенно не свойственного нашему краю, глупая нелепица, которую и сном-то назвать стыдно – все это повергло доктора в состояние смущенное и мятущееся. Вместе с тем, оставаясь приверженцем логического образа действий, он рассудил следующим образом: нужно всеми силами убедить Седрика Милна забрать идола, — тем более, что он сопровождает миссис Дюпон в ее пути — и пускай лучше это странное изделие вернется туда, где родилось – в край, под названием Золотой Берег.
Эти мысли протекали в голове мистера Кулиджа в момент, когда он решил вновь внимательно изучить нежданное приобретение. Исходя из его собственных объяснений, в том не было ничего необыкновенного, мол, позыв человека науки, к коим он себя относил, требовал как минимум описать неизвестный ранее артефакт. Мне же, наоборот, и ход рассуждений Огастеса и возникшее в нем любопытство, показались весьма странными и я склонен относить их, да и другие его поступки, к неизвестного свойства воздействию, оказанному подарком Артура Дюпона.
Судите сами, вот как описывал в подробностях свой естественно-научный эксперимент сам доктор. Прежде всего, вспоминал он, им было принято решение сделать зарисовку идола (а мой друг, забыл упомянуть, в юные годы подавал надежды как неплохой живописец, да и впоследствии грешил иногда написанием пейзажей и натюрмортов). Кулидж поставил божка под свет лампы в кабинете, вооружился карандашом и бумагой и принялся за работу. По итогу ее доктор обнаружил, что получившийся рисунок сильно разнится с оригиналом, хотя в процессе он этого вовсе не замечал. Тогда, полагая причиной некоторую утрату навыка, Кулидж сделал второй набросок, но и тот не походил на образец и отличался вдобавок от первого. Третий постигла та же участь. Доктор, смутившись таким поворотом, сломал пару карандашей и изорвал свои творения в клочья, а потом опять начал заново. Но, время шло, терпение его иссякало, результат же лучше не становился. Тогда он бросил этот сизифов труд и отстранившись от стола просто некоторое время взирал на доставляющий ему такие неудобства предмет. Наибольшее внимание в нем привлекала венчавшая маленькое тельце непомерно длинная голова с уродливыми чертами и глазами-бусинами. Они придавали лицу идола особенно злобное и одновременно живое выражение. Эффект этот оказался до того силен, что мистеру Кулиджу начало казаться, будто не только он рассматривает идола, но и идол не менее внимательно изучает его. В конце концов, Огастес Кулидж не выдержал и укрыл африканского истукана каким-то платком, а сам пошел прочь из кабинета, все еще мучимый раздумьями о дальнейших действиях своих.
Итогом их явилось то, что среди ночи он отыскал троюродного брата миссис Оллсоп, иногда подвизавшегося у него конюхом, и наказал ему готовить двуколку в дорогу. Спешно собравшись, доктор выехал в Норидж, надеясь успеть к утреннему поезду до Лондона. Огастеса Кулиджа лихорадило, он абсолютно не осознавал перемены, произведенной в его сознании последними событиями, но желал только одного: скорее вернуть нечаянный дар, забыть обо всем, что с ним связано, как о дурном сне и жить спокойно дальше. К огромному сожалению, дурные сны порой становятся кошмарами наяву…
Не уверен в том, есть ли смысл описывать все перипетии ночного пути мистера Кулиджа до столицы графства, поскольку это может без надобности утяжелить мой рассказ. Упомяну лишь, что миль за десять до Нориджа двуколка попала в невесть откуда взявшуюся глубокую колею и конюху пришлось потратить немало сил, вытаскивая из нее повозку, а доктору – также немало понервничать за время вынужденной остановки. Причем, с его же слов, он не столько волновался за опоздание на поезд (хотя, безусловно, тяготился и этим), сколько переживал, не случилось бы чего в безлюдной местности в такой неурочный час. Пусть у них светила лампа, пусть конюх был крепкий малый, а из-за пояса у него торчал серьезного вида кнут, пусть все так, но доктор непрерывно оглядывался в тревоге и всюду в лесу ему чудилась опасность. Он уже знал какой облик она имеет – вид пятнистой дикой кошки, — и также знал, какая судьба ожидает всякую ее жертву, ведь тела мистера Дюпона и его слуги красноречивейшим образом свидетельствовали об этом. Так что, когда двуколка наконец смогла тронуться в путь, мистер Кулидж испытал колоссальное облегчение.
Он вполне и даже с запасом успел на поезд и со всеми удобствами расположился в вагоне первого класса. Уложив на полку саквояж с личными вещами и завернутым в платок африканским идолом, доктор, пользуясь тем, что в купе находился один, вознамерился вздремнуть, покуда окончательно не взошло солнце. Но, задергивая шторку на окне, он вдруг заметил леопарда, мелькнувшего в траве вдоль кромки леса. Хищник отчаянно старался догнать еще не успевший разогнаться поезд, оставаясь при этом в тени. Его гибкое, мускулистое тело неслось огромными прыжками и весь он походил на некую безумно мощную пружину, сжимающуюся и разжимающуюся с невероятной силой. Несколько секунд Огастес Кулидж как завороженный наблюдал за движениями смертельно опасного и одновременно совершенного в своей грациозной мощи существа. Но вот наступил момент, когда почти поравнявшись с вагоном, зверь взглянул на человека и взор его был страшен настолько, что поверг доктора Кулиджа в неописуемый ужас. Он вскочил, бросился к выходу, намереваясь звать на помощь, только вот выйти из купе не смог, поскольку защелка на двери решительно отказывалась отпираться. Так он и стоял несколько безумно длинных и страшных мгновений, дергая ручку, оглядываясь на окно и снова дергая и опять оглядываясь… А потом Огастес Кулидж проснулся.
Поезд плавно и мерно держал путь на Лондон. За окном расстилалась прекрасная, пасторального вида местность, все дышало покоем и благоденствием и, разумеется, никакой зверь не преследовал состав.
Два кошмара за две ночи подряд – это уже слишком. Трясущимися, потными руками доктор Кулидж вывалил перед собой содержимое саквояжа, отыскал там флакончик лауданума и замахнул порядочный глоточек. Сразу ему не помогло и он повторил нехитрую медицинскую процедуру снова. Вскоре мистеру Кулиджу полегчало и он нашел, что данное лекарство, частенько им прописываемое другим, в самом деле не такая уж и плохая вещь. С учетом такого обстоятельства он, уже полностью умиротворенный, все оставшееся время пути, — разумеется, исключительно в профилактических целях — периодически прикладывался к пузырьку и, как следствие, к вечеру, когда путешествие закончилось, ступил на перрон Гринвичского вокзала в изрядно невнятном состоянии.
***
Огастес Кулидж был не великий знаток Лондона и уж тем более не великий любитель его. Как и многие из провинциалов, чей удел небольшие городки, где все друг друга знают и друг у друга на виду, он испытывал некий, почти первобытный, необъяснимый страх перед метрополией. Его пугали невероятные размеры и излишняя скученность столицы, отвратительный климат ее, холодность и отчужденность местных обитателей, запутанные улицы и одинаковые, черные, похожие на гнилые зубы, дома, которым несть числа. Сам он в последний раз до того бывал в Лондоне во времена юности, когда получал образование; здесь у него оставались несколько знакомых, но скорее номинальных, так сказать шапочных, с которыми он не общался бог его знает сколько лет и потому не мог позволить наглость обратиться к ним за помощью. В общем, можно смело сказать, что мистер Кулидж проявил недюжинную отвагу, граничащую с безрассудством, отправившись в столицу Британии, толком не зная даже, каким образом отыскать в ней нужных ему людей.
Впрочем, как часто бывает, владыка-случай приходит на помощь именно к таким, как Огастес Кулидж и именно в подобных ситуациях. Вот и сейчас моему герою весьма повезло: первый же попавшийся ему кэбмен оказался сноровистым и очень общительным малым. Видя прилично одетого, но совершенно растерявшегося джентльмена, явно не здешнего, он отрекомендовал мистеру Кулиджу вполне сносную гостиницу под названием «Якорь», расположенную на стыке Ист-Энда и Сити, а по пути дал несколько ценных советов о жизни в столице. Для начала этот извозчик снабдил моего дорогого друга несколькими ценными адресами, как-то: неплохого паба, в котором наливают сносное пойло и изрядно кормят, а еще, что немаловажно, имеется приличествующая обеспеченным господам обстановочка; еще, заведения, где встречают и привечают за умеренную плату чистенькие и аккуратные девочки; ну и как приятное дополнение, притона, с качественной «дурью». Все это преподносилось бодрым малым под стук колес по мостовой, с изобилием двусмысленных шуток и, как ни удивительно, несмотря на сомнительные свойства его рассказа, весело и безобидно. Говоря откровенно, мистера Кулиджа в тот момент не шибко сильно интересовало, где подкрепиться, еще меньше волновался он о всяких там девочках, а про «дурь» и вовсе ранее никогда не слышал (кто же знал в Уайтхеме, что некоторые признанные медицинскими светилами средства, можно потреблять в развлекательных целях!). Во время пути он разглядывал наполненные народом улицы, поражался обилию на них фонарей и нищих, завороженно обращался лицом к сверкающим витринам и все думал о том, как же можно спать в таком непрекращающемся ни на миг гвалте. К счастью, у него достало ума спросить у всезнающего водителя, не в курсе ли тот, каким образом сыскать в подобной вавилонской толчее потерявшегося человека.
Кэбмен разумеется, был в курсе. Надо обратиться за наведением справок, благо в Лондоне достаточно соответствующих бюро. Если попасть к хорошему малому, тот живо отыщет нужную персону, да еще и выложит про нее всю подноготную.
Эта часть разговора случилась, когда экипаж покинул многолюдную часть города и пополз по тихим, наполненным тайной и туманом, извилистым улочкам Ист-Энда. Вскоре извозчик остановился у искомой гостиницы и передал моему товарищу визитную карточку, из тех, каковые по случаю в избытке копятся у каждого из его братии. «Уэндел Шерер. Справки. Детектив», было начертано на картонке, а чуть ниже мелкой вязью притаился адрес.
— Отправьте этому господину телеграмму утром пораньше и он непременно назначит вам свидание. Найдет все, что захотите, уж поверьте. – Произнес кэбмен. – Только не забудьте сказать ему, что отрекомендовал его Билл, извозчик, четыреста девятый номер.
Он, улыбнулся на прощание, явив желтые, полустертые зубы и был таков.
***
Друг мой провел ночь бессонную и беспокойную. Да и могло ли ему спаться в огромном, незнакомом городе, куда нежданно попал он по не вполне вразумительной для него же причине? Тысячу раз не могло. И не спалось. Остатки лауданума испарились из крови его, оставив опустошенность, неприятный привкус горечи во рту и щемящее чувство тревоги, натужно давящее сердце. Он бродил по гостиничному номеру, временами выглядывал в окно и тогда с трепетом думал о том, а что если вдруг явится ему посреди застывшего городского пейзажа дикая, пятнистая кошка? Как быть ему тогда, как спасаться? Но нет, снаружи тянулась лишь улица с уступами однообразных, унылых стен, да плыли клочья вечного здесь тумана.
Едва настало утро, мистер Кулидж спешно отправился искать почтовое отделение, откуда выслал детективу Шереру телеграмму с просьбой о встрече. Ответ пришел ближе к полудню. В нем содержалось приглашение прибыть по означенному в визитке адресу и, почувствовав, как безнадежное еще на рассвете дело, обретает вдруг надежду, Огастес Кулидж помчался в путь, не забыв прихватить с собою саквояж, из коего так и не решился вынуть подарок Артура Дюпона.
Мистер Уэндел Шерер, собиратель справок и частный детектив, обитался в длинном, красного кирпича здании, где имел офис, весьма тщательно спрятанный в укромном закутке бесконечно запутанного коридора.
Мой приятель описал его (я имею ввиду господина Шерера, разумеется), как молодого человека из породы людей, какие своего не отдадут и чужого не упустят; высокого, франтовато одетого, с несколько надменным, украшенным тонкими усиками, лицом. Он смерил доктора холодным, рыбьим взглядом через золотое пенсне и, видимо, мгновенно раскусив, какой фрукт ему явился, дозволил присесть напротив себя.
Доктор Кулидж поначалу робко молчал, не зная с чего начать и длилась эта неловкая пауза до той поры, пока мистер Шерер, выразительно на него воззрившись, не повел холеными руками, которыми до того подпирал свой идеально выбритый подбородок. Тогда мой сердечный товарищ как бы опомнился и надо отметить, проявил изрядную откровенность.
Он говорил долго и путано, разом позабыв в незнакомой для себя обстановке все те изысканные приемы речи, какие случались у него при общении с пациентами и знакомыми в родном Уайтхеме. Попытавшись обрисовать всю картину случившегося с ним с момента знакомства с Артуром Дюпоном, он пустился в подробности личных впечатлений и переживаний и вынул даже на свет божий статуэтку, дабы показать ее детективу. Тот, впрочем, слушал с откровенным скепсисом, по-крайней мере, так мистеру Кулиджу показалось. На красивом, надменном лице Шерера застыла маска настороженного внимания, с каким иногда порой всякий принужден выслушивать кого-то неприятного лично, но необходимого по деловой надобности.
В конце концов детектив прервал путаное словоизлияние доктора взмахом руки и, поморщившись и скинув с носа пенсне, вопросил:
— Чего же хотите вы от меня, любезный?
Найти Седрика Милна, вот то, что мне необходимо, дальше я уж как-нибудь разберусь, подумал Огастес Кулидж, а подумавши, озвучил мысль эту вслух.
— Признаться честно, — отвечал ему собиратель справок, — ваша история весьма занимательна, пожалуй даже слишком, чтобы быть правдой. Впрочем, сомневаюсь, касается ли она меня. А вот отыскать искомое лицо, пожалуйста. – Он протер пенсне платочком, водрузил его обратно и закурив длинную, тонкую сигару, неожиданно молвил, — знаете, как легче всего сыскать иголку в стоге сена?
— Нет, — помотал головой провинциальный доктор.
— Нужно сжечь стог, только и всего. Жаль с Лондоном так поступить нельзя, он давно этого заслуживает.
Доктор посмотрел в грязное, маленькое окошко. На улице куда-то торопились по делам люди, теснились бесчисленные экипажи, поверх крыш домов повис черный фабричный смог. В тот момент он готов был согласиться с собеседником.
— Сутки времени и десять фунтов.
Мистер Кулидж, очнувшись от созерцания далеко не идиллической картины, удивленно посмотрел на детектива, потом, воскликнув растерянно «Да, да, разумеется…», полез в карман за бумажником и безропотно выложил на сукно стола купюры. Торговаться ему и в голову не пришло, да и в любом случае, оказалось бы поздно, поскольку деньги мигом исчезли, перекочевав в портмоне частного детектива.
Отчего-то извинившись, бедняга доктор почел за лучшее удалиться. На выходе, случайно глянув в старое, пыльное зеркало и испугавшись собственной, искаженной в нем физиономии, он задал глупый вопрос:
— А что же собственно мне делать, покуда жду вас, мистер Шерер?
Тот неопределенно пожал плечами.
— Не знаю и знать не могу, сударь. Сходите и вкусно поешьте, посетите варьете, прогуляйтесь по магазинам. В Вавилоне всегда найдется, чем себя развлечь…
После этих слов, детектив с максимально независимым видом распахнул свежий «Таймс» и погрузился в чтение.
Мистер Кулидж почувствовал себя не то чтобы одураченным, но, во всяком случае, близко к тому. Впрочем, рассудил он, может статься, в метрополии подобная норма общения является нормой. Потому доктор почел за лучшее удалиться и ждать, когда собиратель справок покажет, каков он в деле.
***
Воротившись в «Якорь», Огастес Кулидж некоторое время поразмышлял относительно собственного ближайшего будущего, причем несколько раз успел пожалеть о проявленной опрометчивости и раскаяться в таких сожалениях, а еще вновь попытался сделать зарисовку неожиданного подарка, впрочем опять неудачную. В конце концов он махнул рукой на эти бесплодные занятия, заказал ужин прямо в номер и впервые за последнее время с аппетитом откушал. Сытость окончательно вернула ему уверенность в собственных силах а, поскольку вечер того дня выдался на удивление приятным и безмятежным, — ветер разогнал тучи и туман, после чего вдруг тоже утих, что для Лондона огромная редкость – он решил, следуя совету мистера Шерера, немного прогуляться.
Ах, это провинциальное мировоззрение! Нас, обитателей маленьких городков и захолустных деревенек, большой мир пугает, заставляя особенно остро чувствовать собственную ничтожную местечковость. И в то же время этот другой мир манит, влечет, призывает окунуться в себя и удержаться от его настойчивого зова практически невозможно. Кто из провинциалов, будучи с оказией в Лондоне, не бродил по его улицам, испытывая одновременно восхищение и испуг на грани сердечного припадка? Кто, поддавшись искушению, не заглядывал в пабы, дорогие рестораны, всевозможные злачные места, о каких в родных краях и не слыхивали? Кто, в конце концов не давал себе зарок, натерпевшись от верных спутников столичных развлечений – горького лиха и хмельного разочарования, — больше никогда и ни за что не бывать в порочнейшем из городов; но за тем лишь только, чтобы потом со вздохом вспоминать главное путешествие своей мелкой жизни, мечтая повторить его вновь? Кто, скажите? Вот и доктор, такой правильный, такой тихий и честный, поддался искушению.
Он долго бродил по Бонд-стрит и Оксфорд-стрит, разглядывая огромные, сверкающие витрины магазинов и боясь зайти хотя бы в один из них, трепеща перед всей этой выставленной на показ, подавляющей воображение роскошью. В немом восхищении от столичного блеска, дошел он до Пикадилли, где набрался смелости посетить некую большую, полную множества народа ресторацию под названием «Критерион» и незаметно для себя отужинал там второй раз за вечер. Возобновив моцион, он добрался до грандиозного Королевского театра, а от него и до набережной Темзы, где застал какое-то представление и вместе со всеми смеялся шуткам кукольного Панча, избавляясь тем от накопившегося душевного напряжения. Он бродил среди пестрой толпы, вдыхал аромат жареных каштанов, смешавшийся с запахом речной тины и застенчиво разглядывал прохожих, угадывая в них характерные диккенсовские типажи. Загадочным образом занесло его и в знаменитую «Радугу», в коей махнул он пару стаканчиков виски, а когда отправился гулять дальше, оказался атакован продажной девкой, но Бог миловал и от проститутки ему удалось отговориться… В общем, тот сумбурный, фантасмагорический вечер удался на славу. Правда, вдруг выяснилось, что бедный доктор нежданно забрел в абсолютно непонятную часть города. Нарядная оболочка Лондона тогда стремглав исчезла и мегаполис явил ему истинный лик, далеко не благостный и абсолютно лишенный привлекательности.
Вокруг высились серые, одинаковые здания, все словно бы поставленные наспех, кое как, с выбитыми иногда окнами, перекошенными дверями и помойными канавами прямо под стенами. Места эти явно были обиталищем бедноты, убогой и затравленной жизнью, которой не место там, где потоками льется дорогое вино и царит безудержное веселье. Здесь доктор Кулидж почувствовал себя настоящим комнатным растением, высаженным на потеху судьбе в чистое поле: беззащитным, хрупким, никому не нужным. Единственной его мыслью стало поскорее унести ноги прочь отсюда и он принялся было оглядываться по сторонам в поисках выхода из каменного лабиринта, но тут обнаружил, что за ним наблюдают.
В паре десятков ярдов от мистера Кулиджа, в тени одного из домов находился человек. Он не особенно скрывался, но разглядеть его не имелось никакой возможности из-за вновь набежавшего тумана и царившего вокруг полумрака. Поначалу мой приятель решил было, что перед ним обычный местный обитатель, вероятно пьяница или припозднившийся работяга, но вскоре понял, нет, все не так просто. До доктора начало доходить чувство, сродни той щемящей тоске, какая завсегда нахлынет от ощущения собственной беспомощности. Поначалу не очень сильное, чувство это тем не менее нарастало в нем и герой мой незаметно для себя шагнул назад, попятился, как несколько ранее, дождливым вечером у себя дома в Уайтхеме. Тогда человек, за ним наблюдавший, тоже сдвинулся с места, навстречу ему и в какой-то момент стал виден очень даже хорошо. То ли луна выглянула из-за сгущающихся постепенно туч, то ли оказался он под светом одного из окон, но доктор смог разглядеть его во всех подробностях.
Ему явился высокий, черный как смоль старик, тощий и страшный, сутулый, с выпирающими на конечностях суставами. Облачен он был в одну только набедренную повязку, в правой руке держал короткий, суковатый посох. Старик этот скорбно покачал головой, погрозил Огастесу Кулиджу палкой, а затем ударил ею о мостовую и сразу к ноге его, словно из ниоткуда, припал огромный леопард.
Несчастный доктор Кулидж вспоминал этот миг, покрывшись холодной испариной; именно тогда, уверял он и появилась первая седина в его густых, кудрявых, рыжих волосах. Он остановился, ноги его отнялись, но стоило зверю осторожно, крадучись ступить к нему — опомнился и стремглав помчался прочь. Бежал он безо всякой цели и направления, не разбирая пути, а просто напросто руководствуясь одним лишь стремлением спастись.
В какой-то момент он обернулся, подобно тому, как делает это, руководствуясь инстинктом самосохранения, всякое живое существо. Кошка двигалась за ним, неторопливо, но и не медленно, старательно держась в тени домов. Она быстро проскакивала редкие участки улицы, освещенные окнами и тогда на краткий миг становилось видно ее пятнистое тело, тонкое, дышащее безумной, дикой силой, а потом вновь замедляла ход, но ровно настолько, чтобы держать Кулиджа перед собою. Стоило же ему сунуться вправо или влево, пытаясь свернуть на какую-нибудь боковую улочку, как леопард делал гигантский рывок, вперед или в сторону, в зависимости от обстоятельств и маневром тем преграждал дорогу к отступлению. Хищник вел его словно слабую, неразумную зверушку, гнал в одному ему известном направлении и бедняге Кулиджу оставалось только одно: следовать этим, предопределенным ему путем, трясясь от накатывающего волной ужаса заставлять себя держаться на ослабевших ногах и бежать, бежать повизгивая, словно свинка, предчувствуя нечто еще более ужасное, нечто настолько невообразимо страшное, что и представить невозможно…
Дорога между тем сама собою изогнулась, а жилые дома, пусть и убогие, страшные, но все таки полные людьми, — что вселяло хотя бы малейшую надежду — сменились глухими, выщербленными стенами. Мистер Кулидж пробежал еще пару десятков ярдов и оказался перед высокой чугунной решеткой, за которой высились, шумя на ветру, черные деревья. Одно из них, огромное и словно бы переселившееся в городские трущобы из некоего вековечного леса, в какой не ступала нога человеческая, росло особенно близко к улице. Толстая, искривленная ветвь его нависла над пиками парковой ограды и вот на ней, на это самой ветви, доктора Кулиджа поджидал еще один зверь.
Тот, второй леопард сразу был бы и не приметен, особенно для стороннего, по обыкновению рассеянного и занятого исключительно собственной персоной обывателя. Но мой несчастный доктор тогда вовсе не был обыкновенный обыватель. Сердце истово колотилось в его груди, кровь стучала в висках, ледяной воздух огнем обжигал легкие, опасность стократно усилила чувства. И он, разумеется заметил огромное существо, припавшее к дереву и сжавшееся перед смертельным прыжком в тугой комок.
Вот куда гнала его та, первая кошка и вот почему! Здесь глухое место, тут вряд ли бывают посторонние, сюда никто не заявится и никто не придет на помощь жалкому человечишке, безумной выдумкой мистера Дарвина вознесенному на вершину эволюции!
Наверное, тогда бы и пришел конец моему другу, отважному и безрассудному Огастесу Кулиджу, но, случилось то, чего не мог предусмотреть ни он сам ни уж тем более ни один из преследовавших его хищников.
Справа, вероятно сойдя с какой-то дорожки, огибавшей парк, нежданно появился сержант полиции в синем мундире и пробковом шлеме. В одной руке он нес фонарь, коими снабжают любого патрульного на ночь глядя, а другой держал медную флягу, не иначе, как с налитым чаем или кофе. Шел бобби, по всему видно, маршрутом привычным и завсегда до того спокойным, особенно не торопился и вид имел донельзя расслабленный, хотя и несколько уставший. Можно представить потому, какое удивление он испытал, когда с криком «Помогите!», навстречу ему бросился несчастный доктор.
Знай сержант уготованную ему печальную судьбу, обходил бы тот парк стороной за милю, а может и вовсе снял бы нашивки с рукавов и уехал прочь из страшного, темного города, каким всегда был и на веки вечные останется Лондон. Но, подобно любому иному человеку, способен ли он был заглянуть в будущее? Разве мог он и в прошлое заглянуть и предположить, что одна странная встреча на сельской дороге подле безвестного городка, решит среди прочего и его участь?
Сержант поставил на землю флягу, приподнял повыше фонарь и приготовился встретить странного незнакомого джентльмена, но тот в последний миг умудрился споткнуться о посудину и кубарем покатился в сторону. Это и спасло ему жизнь.
Раздался истошный вопль, короткий, будто бы захлебнувшийся в себе. Доктор поднялся и успел заметить, как дергается, нелепо размахивая ногами и руками бедняга полицейский, а на нем урча подпрыгивают обе дикие кошки и рвут, рвут его живьем на части, так что ошметки мяса летят во все стороны!
Несчастный мистер Кулидж, посерев от ужаса, тонко вереща нечто невразумительное, побежал прочь, теперь вовсе не разбирая дороги и ноги не иначе как чудом вынесли его на тропу, которая приведя к погибели безымянного полицейского сержанта, для героя этого рассказа явилась путем к спасению.
Оказавшись на каком-то перекрестке, Кулидж увидел стоящий в нескольких шагах кэб. Из него вывалился припозднившийся пассажир и экипаж начал было движение, но тут доктор, явив необыкновенную ловкость, запрыгнул ему на подножку.
— Милейший! Милейший! – воскликнул бедняга. – Увези меня отсюда, да поскорее!
Наверное, местные извозчики народ бывалый и повидали всякого. Упрашивать дважды кэбмена не пришлось, он припустил лошадку и та зацокала копытами по неровной мостовой, унося несчастного сельского доктора прочь от страшной опасности.
Некоторое время он сидел, зажмурив глаза и не в силах шевельнуться. Перед внутренним взором его мелькали страшные звери, калечащие несчастного сержанта. Мистер Кулидж поверить не мог, в то, что окажется когда-нибудь в подобной заварушке. Жизнь, до поры тихая и размеренная, превратилась вдруг в некий ураган, полный насилия и боли и самое кошмарное, что не предвиделось ни малейшей возможности остановить это безумие. Кроме единственно смерти, ну так ведь никто раньше срока на тот свет не хочет…
Из такого оцепенения, странного полузабытья, в каковое доктор обыкновенно погружался, испытав потрясение, вывел его окрик извозчика. Водителя экипажа, едва он покинул неспокойный район, интересовало, куда теперь править. И первым адресом, вспомнившимся доктору Кулиджу, был дом, в котором располагалась контора мистера Уэндела Шерера.
Начертав дрожащей рукой записку в пару умоляющих строк и оставив ее заспанному портье, едва не обезумевший от страха доктор таки добрался до гостиницы. Приехавши, он не считая, вывалил из карманов горсть монет, сунул их извозчику, пулей промчался через холл, заскочил в номер, заперся, подложив для надежности к двери кресло и забился в дальний угол спальни.
Оставшиеся от ночи часы доктор Кулидж провел не сходя с места, дрожа от озноба, отчаянно желая покоя и сна, но заснуть абсолютно не в силах. Чего только не передумал он тогда; человеку стороннему и представить невозможно! Но если представить и нельзя, то вот факт – именно тогда в нем надломилось нечто, сохранявшее до поры его разум чистым и не замутненным. Именно после той ночи и стал он таким, каким представлялся впоследствии окружающим людям: странноватым, пугающимся малейшего шороха чудаком, способным еще лечить, но совершенно не могущим уже излечиться, находящимся будто в каком-то пограничном состоянии, за одной из вех которого скрывается безумие…
Огастес Кулидж покинул угол, когда утром раздался требовательный и решительный стук в дверь, сопровождаемый уже знакомым, характерным голосом господина Шерера.
Отперев, доктор едва не рыдая, бросился на шею детективу, чем поверг того в некоторое смущение. Чопорно отстранив его от себя, Шерер вошел внутрь, бросил на столик свежую газету и показал мистеру Кулиджу передовицу, где красовалось огромное заглавие: «Две ночные жертвы таинственного зверя!». Текст под ним гласил об ужасном событии, случившемся в районе полуночи в одном из городских парков: патрульный полицейский и случайный прохожий пали жертвой некоего существа, буквально истерзавшего их плоть, причем штатский господин изуродован до неузнаваемости. Едва мы успели оправиться от жестокостей Джека Потрошителя, — подводил итог автор нагоняющей жуть статейки, — едва успели вздохнуть свободно, как новое страшное происшествие повергает всех в трепет…
Доктор отбросил газету, словно держал в руках раскаленную сковороду. В голове его вновь мелькнул бедный сержант, заживо поглощаемый хищниками, потом вспомнился пьяный джентльмен, покинувший кэб, в который он, Кулидж, столь торопливо запрыгнул… Что-то будет дальше?
Он присел в креслице, безвольно опустил плечи и застыл ни жив ни мертв.
— Меня заинтересовала ваша история, милый доктор, — сказал Шерер. – Видимо, вы не настолько ненормальный, как можно предположить при первом знакомстве. Тем более, я успел узнать кое что о вашем визави. Еще нуждаетесь в моей помощи?
Он явно предполагал, каков будет ответ ему, и не ошибся ни на гран. Бедняжка Огастес, обратив на него осунувшееся лицо, закивал, истово, едва не заламывая руки в мольбе о помощи. Вот тогда-то, выдержав театральную паузу, мистер Шерер и назвал сумму, требуемую за свои услуги.
Какова она, сказать затрудняюсь, ибо не знаю, а выдумывать не имею ни малейшего желания. Дорогой сердцу моему мистер Кулидж, описывая те события, озвучить ее наотрез отказался, упомянув только, что размер запрошенного гонорара оказался близок к тому, чтобы ввергнуть его в нужду и согласился он на объявленные условия исключительно от крайней безысходности.
— Тогда выписывайте чек с задатком и я буду готов повторно выслушать вашу отповедь, доктор. Только поскорее. Времени у нас мало, а день предстоит трудный.
Да, верно и впрямь детектив Уэндел Шерер оказался парень не промах.
***
— Месяц назад в Миллуолл из Аккры прибыла шхуна «Конкордия». В списке пассажиров значился некий Седрик Милн, а с ним четверо черных слуг и внушительный багаж. Сей господин снял несколько меблированных комнат во вполне респектабельном доме и отправился в Ваш родной городишко, любезный доктор, из коего воротился уже с очаровательной миссис Дюпон. Казалось бы, ничего особенного, если не знать, что уезжал-то он в сопровождении лакеев и нескольких больших коробок, а вот обратно приехал без них и им с дамой пришлось нанять гувернантку для помощи в уходе за ребенком.
Слова эти мистер Шерер произносил на ходу, отмеряя шаг за шагом длинными, тонкими ногами и помахивая изящной тросточкой. Голос его оставался абсолютно ровным и спокойным, так, будто сидел он в уютном кресле, а не шел со скоростью, едва доступной простому смертному. Доктор Кулидж, уныло плетясь позади, с трудом поспевал за ним. Начав задыхаться, он решился было попросить передышку, но дослушав до конца речь спутника, подпрыгнул на месте подобно мячику и мигом нагнал детектива.
— Позвольте, куда же они могли пропасть? – поинтересовался мой товарищ, имея ввиду тех, исчезнувших, слуг.
— Понятия не имею, — был ему ответ. – Но если на минутку предположить, — просто сказав себе, что такое возможно – будто сказка про людей, способных воплощаться в больших кошек, не очень-то и сказка, то можно строить разные теории. И багаж, багаж, доктор! Что или кого перемещали в тех огромных коробках? Делайте выводы!
Утренняя прогулка двух джентльменов продолжалась. Один поворот сменял другой, улицы мелькали, как цветные стеклышки в калейдоскопе и даже пожелай несчастный доктор запомнить дорогу, все равно не смог бы. Что поделать, такова участь любого обитателя окраин: привыкнув к паре закоулков, среди коих проходит вся жизнь, маленький человечек совершенно теряется, оказавшись в новом, незнакомом, а тем паче громадном и многолюдном месте. Потому, мой товарищ полностью вверил себя мистеру Шереру и даже не подумал спросить, куда они держат путь.
— Мы в Грин-парке, — произнес Шерер, выводя доктора на обширную платановую аллею. – Теперь лучше скрыться и некоторое время обождать. Скоро начнутся сюрпризы.
Детектив взял доктора Кулиджа под локоть и увел его с дорожки к деревьям. Они притаились в тени тревожно шумящей листвы, сами незаметные, но способные прекрасно наблюдать пространство вокруг себя.
Поначалу мистер Кулидж никак не мог взять в толк, чего же они ждут; спустя несколько минут такого стояния он начал тревожиться, мяться и Шереру пришлось даже сказать нечто вроде «Да, успокойтесь наконец, как будто мне все это нужно, черт возьми!». Едва слова эти успели сорваться грозным шепотом из его уст, он задергал бедолагу Кулиджа за рукав, призывая того к вниманию.
На дорожке появилась пара: скромно и неброско, но более чем достойно одетые мужчина и женщина неторопливо прогуливались пешком, держась под руки, а позади в некотором отдалении шла гувернантка с детской коляской. Лица женщины было не разглядеть: его скрывала шляпка с широкими полями и приспущенной черной вуалью, но вот господина, ведшего ее, узнать не составило никакой проблемы. То был Седрик Милн.
Когда пара приблизилась, доктор обнаружил, что догадывается, кто состоит в спутницах у мистера Милна. Повадки, особенности фигуры, походка – все выдавало в даме Изабеллу Дюпон.
Капитан и вдова премило меж собою общались и если поначалу с некоторой натяжкой их и можно было принять всего лишь за знакомых, то стоило Милну на мгновение обнять плечи женщины, как малейшие сомнения в том, кто эти двое друг другу, отпали.
— Они, они… — только и нашел в себе сил прошептать мистер Кулидж.
— Любовники, — кивнул детектив.
Огастес Кулидж ойкнул, эхом отозвался «Любовники…» и почувствовал, как земля уходит у него из под ног. Этого несчастного, наивного недотепу и поборника науки вдруг пронзила молнией мысль о том, что он является невольным участником некоей странной и загадочной игры и роль его в ней – быть единственной пешкой в окружении нескольких ферзей.
— Вот еще какая штука, — продолжил Шерер. – Человек по имени Седрик Милн никогда не служил в Пятом королевском полку.
Явись тогда на землю ангел небесный и то не вызвал бы большего потрясения у доктора Кулиджа, настолько добила его последняя новость. Бедняга силился сказать нечто вроде: «Как же так, позвольте, как же так в самом деле? Ведь у него такая выправка, у него шрам на лице и жесты, эти жесты рукой, словно он рубит врага саблею, ах Боже мой!», но произнести внятно хотя бы одно слово оказался совершенно не в силах.
***
И своя то душа потемки, а чужая тем более. Ума не приложу, что подвигло Огастеса Кулиджа совершить следующий поступок, да и он вспоминая о нем, лишь развел недоуменно руками.
В общем, находясь после описанных выше откровений близко к тому состоянию, про какое обычно говорят «не в себе», доктор порывисто и неожиданно для Уэндела Шерера вышел вдруг из тени деревьев и поравнялся с мистером Милном и миссис Дюпон.
На лицах их, до того радостных и беззаботных, отразилось невероятное удивление, будто они увидали покойника. Изабелла Дюпон, вскрикнула, закрыла лицо ладошками, одетыми в черные, кружевные перчатки и отступила за спину Седрика Милна. Тот, страшно побледнев, пошатнулся, затем с трудом произнес:
— Ты? Это действительно ты, черт тебя возьми?!
Огастес Кулидж не мог даже полагать подобной реакции от человека, столь благожелательно к нему настроенного в недавнем совсем прошлом.
— Как… вы… потрудитесь объяснить, неужели вы и миссис Дюпон… — бессвязно залепетал доктор, хватая воздух ртом подобно вынутой из воды рыбешке.
Мистер Милн тем временем совладал с эмоциями и даже изобразил некое подобие улыбки, впрочем не особенно радушной.
— Удивлен видеть вас, тем более в добром здравии, — произнес он, обернулся к вдове Дюпона, шепнул ей что-то и та пошла к служанке, стоявшей в нескольких шагах позади.
Доктор Кулидж, подобно многим мятущимся натурам, совершив дерзость, тут же попытался оправдаться. Он и не думал тревожить чужой покой и тем более не собирался вмешиваться в частную жизнь посторонних, таковы были его слова. Но, ряд пугающих событий случился с ним и есть все основания полагать, что связаны они с мистером Дюпоном, а точнее с тем подарком, который он преподнес ему, Кулиджу. Потому, не соблаговолит ли мистер Милн, как в некотором роде душеприказчик покойного, забрать эту штуковину обратно и, в виде исключения, объяснить хотя бы парой слов, что же в конце концов происходит?
Тень улыбки на лице мистера Милна сменилась настоящим звериным оскалом, соединившим воедино и гнев и лютую ненависть и страх.
— Убирайтесь прочь отсюда! – рявкнул этот странный господин, догнал миссис Дюпон, взял ее под руку и торопливо зашагал с нею прочь. Дама обернулась несколько раз на мистера Кулиджа: все ее существо отражало крайнюю степень тревоги; впрочем доктор пребывал в таком замешательстве, что уже решительно отказывался это воспринимать.
— Он искренне полагал вас мертвым, а вы так некстати живы, – услышал доктор холодный, чеканный голос Уэндела Шерера и едва нашел в себе силы осведомиться:
— Не понимаю, о чем вы?
— Вряд ли фальшивому капитану радостно видеть Вас в добром здравии. Держу пари, он уже успел выпить за упокой Вашей души, а теперь все его планы стремительно рушатся.
И Уэндел Шерер тоже пошел прочь, только в другую сторону. Несчастный мистер Кулидж посмотрел на порядочно удалившегося уже Седрика Милна, потом на успевшего сделать лишь несколько шагов детектива и поспешил за последним. Наверное, они являли собой презабавное зрелище: высокий, худощавый франт, с тростью в руке, отмеряющий громадные шаги и часто и мелко семенящий за ним полный, потеющий человечек, тревожно косящийся по сторонам. Будто откормленная комнатная собачонка силилась догнать хозяина на прогулке. Да, и парочка любопытная и зрелище в равной степени и забавное и нелепое; если только не знать его подоплеки.
— Какие планы умоляю, скажите, какие такие планы?
— Ну как же, — взмахнув тросточкой, отвечал детектив, словно бы объясняя очевидные вещи, известные даже младенцу. – Как же, доктор, ведь мистер Милн из утренних газет наивно уверился, будто вы мертвец и наверное представлял уже благополучное отправление на корабле в Аккру через пару дней, а тут такое… Покойник выпрыгивает ему навстречу из кустов, ха!
Он вдруг остановился, взрыхлив землю каблуками повернулся к доктору и сказал:
— После неких событий в моей жизни я решил ничему не удивляться, но признаться и вы и тот господин, чью спину мы можем лицезреть, меня поразили. Вы – наивной, в лучших традициях мистера Пиквика, глупостью, он – коварством, какому я даже примера не сподоблюсь подобрать. Сдается мне, что приехавшим с ним черным позарез требуется статуэтка, неосмотрительно взятая вами в подарок, а мистеру Милну нужна была миссис Дюпон, вот он и заключил с ними сделку: привозит их в Англию, находит им несчастного Артура, взамен же получает прекрасную вдовушку. Правда, вы еще живы, а значит Милн попал в собственные сети, скорое возвращение домой откладывается и то ли люди то ли кошки продолжат затянувшуюся охоту.
На физиономии доктора, на этом некогда довольном, пухлом лице сознательного джентльмена, ведущего донельзя сытую и правильную жизнь, теперь же осунувшемся, сером и уставшем, отобразился весь тот дикий ужас, что таился в его душе.
— Я выброшу в реку дурацкую деревяшку! В воду ее … – сорвалось с губ мистера Кулиджа. – Темза все скроет… Пропади пропадом моя порядочность…
Лепеча этот бред, доктор схватил детектива за рукав пальто, как тянет порой родителя неразумное дитя. Тот небрежно, будто прогоняя муху, сбросил хватку Огастеса Кулиджа; закурил длинную, тонкую сигару и задумавшись произнес, размышляя вслух:
— Вряд ли Темза поможет, милый доктор… Но, ладно, прочь лирику. Если охота начнется, без помощи я точно не справлюсь. Придется позвать на выручку пару джентльменов.
***
Неумолимо клонившийся к финалу день продолжился в одном столичном заведении, лично мне известном только из газет и восторженных описаний людей, имевших счастье его посетить. Называется оно «Холлборн» и говорят, кухня там божественна, а обслуживание ей под стать. В частности, некий мой знакомец, часто бывающий по делам в Лондоне, утверждал, что места в этой ресторации записаны на несколько дней вперед и просто зайдя в нее, найти столик там почти нереально. Так оно или нет, не знаю, но в воспоминаниях доктора Кулиджа «Холлборн» предстал полупустым и весьма унылым местом, где подавали невнятного качества отбивные и дешевое вино. Подобное впечатление лично я отношу скорее на счет изменившегося восприятия моим другом окружающего его мира и полагаю лишним свидетельством того, сколь глубоко и быстро прогрессировали в нем отчаяние и обреченность от пережитых потрясений. То, что пришлось услышать ему вскоре от мистера Шерера лишь усугубило в нем эти состояния.
Итак, Седрик Милн вовсе никакой не капитан королевской пехоты. Согласно ответу на телеграф, который детектив успел отстучать в Аккру, он местный плантатор во втором поколении и кстати, сосед тех самых ван Вейков. Артур Дюпон между прочим, тоже был парень не подарок; кое кто из знакомцев, бывших военных, слышал о нем и шепнул, мол подал тот в отставку при не очень приятных обстоятельствах, вылившихся в форменный скандал. Говорят, капитан Дюпон отличался изрядной жестокостью и вел войну такими варварскими методами, что даже у бывалых ветеранов вызвал настоящее негодование. Не будь у него связей наверху, пошел бы он под трибунал, а так, как говорится, «мохнатая лапа» помогла, правда со службой пришлось завязать. Об отношениях указанных джентльменов между собой пока судить рано, но наверняка они не очень симпатизировали друг другу, особенно, если учесть поведение миссис Изабеллы. Неплохо бы еще выяснить, каким боком ввязались в их любовный треугольник четверо ашанти, а тем паче нужно знать, где они обитают сейчас…
Покуда частный детектив излагал все это доктору, за столик к ним подсели двое тех самых обещанных джентльменов. Вид надо отметить, был у них тот еще. Если мистер Шерер отличался нарочитой и слегка небрежной элегантностью, как неотъемлемой частью истинного стиля, то господа, избранные им в союзники, представляли собою настоящих головорезов, вполне подходящих под любимый типаж профессора Ломброзо. Огастес Кулидж отметил в своих воспоминаниях, что обоим им свойственны были некоторая разбитная неряшливость и определенная развязность в жестах, присущие скорее постояльцам заштатных пабов, нежели первоклассных заведений, а кроме того, они оказались вусмерть пьяны. На этом их сходство заканчивалось.
Первый отличался высоким ростом, худобой и не слезающей с губ полуулыбкой; второй наоборот был низенький крепыш, все время хмуривший кустистые брови и морщивший покатый лоб. Тощего звали Алан Паркер и представляя его, собиратель справок сказал, мол, лучше чем он, в Лондоне никто не владеет револьвером, точнее даже двумя сразу, ибо мистер Паркер наделен редким талантом палить с обоих рук одновременно.
Если хочешь избавиться от зверя, нужно убить зверя, добавил Шерер, а раз такое дело, без мистера Паркетов никуда, поскольку он, дескать, за время службы в столичной полиции успел прикончить «больше народу, чем живет в каком-нибудь там мелком городишке, типа Уайтхема».
Безусловно, мой друг воспринял последнюю фразу не более чем как аллегорию, не слишком удачное сравнение циничного молодого человека, но господина Паркера она вместе с тем характеризовала замечательнейшим образом. Равное же впечатление дала единственная фраза, произнесенная им за все время, покуда доктор с ним виделся.
— Какая разница, в кого стрелять, человека или животное. Главное, чтобы денежки за труд оказались в моем карманчике. – Вот какие слова сорвались с губ этого необычного джентльмена.
Другой господин назвался Смити и ладно бы я, но даже и Огастес Кулидж не сумел понять, имя это, фамилия либо же некое прозвище, а ни обладатель его ни тем более Уэндел Шерер тут пояснять ничего не стали. Смити обладал хорошим и вместительным хэнсомом с быстрыми лошадьми, не задавал лишних вопросов и при случае также мог наделать нехороших дел при помощи ножика и револьвера.
Признаться, милый, запуганный донельзя доктор пальбу с одной-то руки представлял себе с трудом, а каково держать револьверы в обоих сразу, да еще прицельно бить из них куда-то и вообразить себе не смел. Также не понимал он, как можно резать кого-то ножиком если только это не скальпель и отсутствует намерение произвести хирургическое вмешательство по всем канонам науки. Тем не менее, безысходность и страх заставляли его беспрекословно доверять мистеру Шереру; наверное не меньше, чем господину Милну, в момент знакомства с ним. Потому доктор принял общество указанных джентльменов безоговорочно и безоглядно.
— Через час он отправится на традиционную прогулку, — задумчиво произнес детектив, сверившись с записями в маленьком блокноте. – А значит, у нас есть шанс.
— Кто отправится на прогулку? – поинтересовался мистер Кулидж, обводя соседей по столику испуганным взглядом.
Смити опрокинул разом полстакана виски, мистер Алан Паркер вновь ухмыльнулся, а Шерер, поморщившись, сказал:
— Седрик Милн, разумеется. Его вечерний моцион неизменен, полагаю, как и Ваш в недавнем прошлом.
Дальше доктор спрашивать не стал, поскольку слово «шанс» неумолимой логикой связал с собственной жизнью. Нежданные его знакомцы, более всего напоминающие бандитов, какими изображают их дешевые авантюрные романчики, обмолвились тем временем парой фраз, после чего Уэндел Шерер, резко встал и хлопнул доктора по плечу.
— Коли все в сборе, то пойдемте, друзья мои. Времени у нас совсем мало, а вам, дорогой друг еще надо успеть прихватить саквояж.
***
По возвращении из столицы доктор Кулидж признался, что во время событий, описываемых в этом рассказе, он особенно часто вспоминал один вечер, проведенный у меня в гостях примерно за полгода до того. Цвела весна и погодка стояла чудесная, мы откушали вкуснейшего кролика, приготовленного моей супругой, а после, устроившись в саду, допоздна пили чай, раскладывали пасьянс и по памяти декламировали любимые места из Кольриджа. В тот день, говорил Огастес Кулидж, он ощутил «квинтэссенцию счастья в чистейшем, абсолютнейшем виде».
Равным образом он, опять таки с его собственных слов, испытал совершенное чувство-антипод, находясь в компании мистера Шерера и его друзей. Да, он знал, эти господа руководствуются, пусть и далеко не бескорыстно, желанием помочь ему, но чувство брезгливости по отношению к происходящему, к избранному ими способу спасения, никак не желало оставлять его, отравляло самый воздух вокруг, вызывая в нем буквально физическое удушье.
Вместительный хэнсом между тем вез любезного моему сердцу друга и означенных джентльменов по лондонским улицам. Стоял очередной, бездонно темный вечер, поездка казалась невероятно долгой, утомительно монотонной и совершенно бессмысленной. Алан Паркер крутил барабан револьвера, детектив Шерер при слабеньком свете фонаря силился читать небольшой, изрядно потрепанный томик, на котором, как ни пытался Огастес Кулидж, не разобрать было ни автора ни названия, а мистер Смити снаружи лениво насвистывал какую-то печальную мелодию.
Доктору ничего не оставалось, как только уставиться в грязное окошко и когда он обреченно свыкся с вынужденной необходимостью путешествия, цель какового ему никто не потрудился объяснить, экипаж неожиданно остановился. Фыркнула недовольно лошадь, едва слышно выругался мистер Смити, а Алан Паркер и Уэндел Шерер встрепенувшись, выскочили наружу. После нескольких минут тишины раздались вдруг приглушенные голоса и некий звук, который Огастес Кулидж сравнил с ударом мокрой тряпкой об пол, после чего спутники его вернулись в салон. Мистер Паркер при этом втолкнул вовнутрь и усадил напротив доктора какого-то господина в сбитом на бок котелке, который сразу снес с головы нежданного гостя увесистым подзатыльником. Не без удивления, надо отметить, доктор Кулидж признал в соседе Седрика Милна. Удивление африканского плантатора оказалось как минимум равноценным.
— Вы? Проклятый докторишка… Куда вы меня везете, эй?! Куда… — попробовал было возмутиться он, но тычок стволом новенького «Уэбли» меж ребер заставил его умолкнуть.
На протяжении последующих без малого минут тридцати Седрик Милн и Огастес Кулидж одинаково испуганно поглядывали друг на друга, а воцарившееся молчание прерывали лишь редкие смешки ни о чем мистера Паркера. Но вот хэнсом опять встал и союзники доктора вытолкнули пленника из салона, дав понять Кулиджу, что ему лучше пока оставаться внутри.
О чем велась беседа между этими господами, бывшими безусловно, как говорится, одного поля ягодами, Огастес Кулидж не ведал. Единственное, что удалось ему уяснить, так это то, что протекала она долго, весьма бурно и своеобразно, сопровождаясь странными шлепками и выкриками, похожими на «Адрес! Говори адрес, живо!»; впрочем, несчастный доктор не уверен, расслышал ли правильно…
Когда ему позволили выйти, он увидел незнакомую местность. В паре шагов шумела неведомая речка, а за нею высились серые громады каких-то строений.
— Где мы? – осведомился недоуменно мистер Кулидж и услышал брошенное кем-то короткое «Тайборн», ничего для не значащее и ни о чем ему не говорящее. Одно только понял доктор: находятся они в отдаленнейшей от города окраине, где места глухие и кричи не кричи, помощи все одно не дождешься.
Уэндел Шерер с друзьями обступили мистера Милна, полностью лишая его свободы маневра и он стоял, насупившись и напрягшись, как бы чувствуя, что в любую минуту с ним может случиться беда. От былого лоска его и благородной воинственности теперь не осталось и следа, походил он скорее на загнанного в угол волка, заранее обреченного на погибель.
— Мистер Кулидж, подарок покойного Дюпона у вас с собой? – Вежливо осведомился Шерер.
— Что? Ах, да, да, разумеется, — спохватился доктор, открыл неизменно пребывавший при нем саквояж и извлек оттуда африканского божка.
— Берите, — молвил Шерер, обращаясь к Милну. Тот отрицательно замотал головой. Тогда Алан Паркер наставил ему к виску револьвер и доктор Кулидж услышал, как там, в районе головы их пленника, зловеще щелкнуло.
— Бери, — повторил детектив. В голосе собирателя справок слышалось столько неумолимой угрозы, что будь на то воля Огастеса Кулиджа, он пустился бы наутек.
Седрик Милн странно всхлипнув, порывисто вырвал идола у доктора.
— Эта штуковина не должна принадлежать белому человеку! – С надрывом в голосе едва ли не выкрикнул фальшивый капитан. – Она проклята для всяких рук, берущих ее. За нарушение любого ждут проклятье и смертная кара…
— Неужели Вы, истинный христианин, ну или хотя бы истинный безбожник, верите в такое? – Не без удивления вопросил Шерер, а мистер Смити осветил снятым с хэнсома фонарем лицо Милна.
Тот обреченно повел безумными от ужаса глазами, ослабил ворот сорочки и заговорил, прерываясь, захлебываясь, торопясь скорее выдать нечто потаенное, терзавшее и мучавшее страшной мукой его душу.
— Вы не жили на западном берегу Черной земли, мистер как-вас-там, оттого и невдомек Вам, сколько истинных христиан и безбожников делаются ярыми язычниками в тех краях. Там не правят наши законы, там поверишь и не в такое, когда жить захочешь. Местные тысячи лет обитали по иным правилам и не нам, приехав к ним без спроса, их менять, не нам, не нам! – Он шумно выдохнул, сглотнул несколько раз, проредил пятерней густые, волнистые волосы, после чего продолжил. – Дюпон был безумцем, ни стыда ни совести, вот как. Ославился на всю провинцию. Ему даже прозвище дали – Зверь, и знаете почему? Он вырезал со своими наемниками несколько деревень кряду. Вешал, рубил, сажал на кол ради одной лишь забавы, говорил, мол, черные не люди, нечего их жалеть. Только если не люди, почему так кричат от боли перед смертью?! Трофеи все собирал, память говорил, нужна ему, о подвигах. Вот и эту штуку (Седрик Милн взвесил на руках идола), забрал на память. Для ашанти она священна и местные колдуны – аниото, объявили на него охоту, а он, — непроходимый упрямец! – из принципа, из гордого самодовольства, заявил, что теперь вот непременно оставит божка себе, как добычу, хотя даже солдаты из роты просили вернуть его. Еще бы, их ведь тоже начали грызть по ночам леопарды… Но Дюпон, упрямый черт, не унимался, а может проклятый божок сводил его постепенно с ума… Потом Дюпона выкинули из полка за зверства, — даже там всех достал — и тогда он решил уехать сюда, смеялся еще, мол, пускай плывут за ним черные ублюдки на своих пирогах.
— Но позвольте, причем тут вы и ван Вейки? – Услышал доктор как бы со стороны собственный голос.
— Изабелла ван Вейк моя. С детства, понятно? – Не без гордости отвечал Седрик Милн. — Наши деды, потом отцы дружили, она мне обещана еще до собственного рождения. Впрочем, вам тут не понять, мы только зовемся одним народом, а живем в разных мирах. Не знаю, на какой крючок Дюпон подцепил старого ван Вейка, долги, шантаж, а может и то и другое, но он забрал ее и…
Каким бы ни был этот человек и кем бы он ни был: подлецом, негодяем, двуличным мерзавцем, но одного у него было не отнять. Он любил, искренне, истово и — важнейшее, — взаимно. И ради своей любви готов был пойти на все, на любое преступление, на сделку с дьяволом в конце концов!
— Черные сами меня нашли. Явились ночью, без спроса и приглашения. Сказали, что им не будет покоя, покуда не вернут бога племени и не накажут вора. Бог лишит его разума, говорили они, но не убьет, нести смерть любому, кто коснется святыни – их долг, – продолжал Милн. – Главный у них старик, ему вроде лет сто или больше и он наводит страх на весь буш. Единственный, кто бросил ему вызов – Дюпон. Аниото не могли этого терпеть.
— Ладно, дело ясное. Черномазым нужен истукан, тебе – суженая и все такое. Отличная сделка для того, кто боится замарать собственные ручки, – сказал Уэндел Шерер. – Но судьба любит пошутить: теперь поганого бога осквернил и ты и именно за тобой пойдут твои дружки из буша. Если только мы не прикончим их раньше.
Седрик Милн выглядел подобно приговоренному к мучительной казни. Отчаяние, стремление жить, боролись в нем с обреченностью перед грядущей неизбежностью. Шквал мгновенно сменяющих эмоций сотрясал его и казалось, находится он на грани помешательства. Чудовищных сил стоило ему, собрав волю в кулак, сказать, едва не срываясь на крик, еще кое-что:
— Аниото растят леопардов с момента их рождения. Они верят, будто звери становятся их двойниками и они как бы связаны одной нитью, их сердца бьются в унисон, их глаза видят одно, их разум един — один умрет, второму тоже конец. Хотите убить черных, делайте дело до полуночи, пока не наступило время охоты. Пока они еще люди. Пока звери их спят.
— Тогда хватит болтовни, можем не успеть, – сказал мистер Паркер, щелкнув крышкой карманных часов. – Спасибо за адресок, сукин ты сын.
— Куда нам еще успевать? – Спросил Кулидж, с ужасом осознавая – ничего еще не закончено, страшнейшее впереди.
— Охота продолжается, — подкрепил эту догадку Шерер, увлек несчастного Кулиджа за собой и посадил его в экипаж. Мистер Паркер присоединился к ним, а мистер Смити запрыгнул на место кучера.
— Они бы убили и ее, слышите?! Если бы добрались до нее сами, без меня! Старик, который ими командует, он такой же безумец, как Дюпон! – донесся им вдогонку отчаянный стон Седрика Милна. – Не оставляйте меня, они придут за мной! Будьте вы прокляты!
Ответом ему послужил злорадный, пьяный смех мистера Смити:
— Молись, чтобы мы успели к ним раньше, чем они к тебе!
Экипаж, трясясь на ухабах, помчался прочь от реки.
— Патронов у тебя хватит, Алан? – деловитым, будничным тоном, словно речь шла о вещах совершенно обыкновенных, осведомился детектив у Паркера.
Стрелок проверил барабаны револьверов, пересчитал патроны в изрядной горсти, вынутой из кармана и кивнул. Ухмылка, казалось приклеилась к его лицу, но глаза, — вот уж поистине зеркало души! – став отчетливо видимыми в момент, когда выскользнувшая из-за туч луна осветила их, оказались чрезвычайно серьезными.
— Времени у нас мало, надо мчать на другой конец города. Тот дом я знаю, главное доехать, — сказал Шерер, по примеру Паркера проверяя оружие. – Эх, не мог наш плантатор найти убежище для черных братьев хоть немного поближе…
Доктор окончательно потерялся. И разумеется, как человек, пытающийся быть уместным, но от природы зачастую неловкий и в делах и в речах, он брякнул невпопад:
— Но что будет, если этот господин, Милн, обратится в полицию?
Мистер Паркер на сей раз расхохотался по-настоящему, а детектив, с укоризной глянув на помощника, ответил, будто разъясняя очевидное малому ребенку:
— Нет. Этот господин никогда не обратится в полицию. Никогда, поверьте.
Детектив сказал что-то еще, но доктор не расслышал. Хэнсом, промчавшись по проселочным топям, затрясся, задребезжал по брусчатке, завертелся, потерялся в безумном сплетенье бесконечных лондонских улиц и беспросветных, унылых проулков. Он нес своих седоков, нес стремительно и беспощадно к неотвратимой развязке, а она, — ох, Боже мой великий и праведный! – таковой оказалась, что и помыслить о подобной никто не смей…
***
В повествовании Огастеса Кулиджа всегда оставалось для меня много неясного. Только на бумаге оно выглядит более менее гладко; но на деле, так сказать в процессе изложения им истории, бесконечные «почему» непрерывно роились в моей голове и часто с трудом заставлял я себя не прерывать его рассказ. Доктор, как уже подчеркивалось мною, находился в состоянии, пограничном между здравым рассудком и неким помешательством, не буйным и истеричным, нет, а похожим скорее на поворот разума в сторону, делающую человека не совсем словно и обитателем нашего бренного мира. Потому боялся я хоть как то, вольно или невольно, нарушить хрупкое равновесие, в каковом он держался, пребывая у меня дома. Часы сменялись часами и Огастес Кулидж то говорил, то впадал в состояние глубокой задумчивости и тогда речь его затухала и он мог непрерывно смотреть в одну точку, пить чай, налитый моей драгоценной супругой и молчать, молчать перед тем, как вновь вымолвить хоть слово…
— Разоткровенничался наш фальшивый капитанишко; он оказывается даже ящики изготовил, куда черные упрятали любимых зверушек, опоив их каким-то зельем, — сказал Шерер, вынул из кармана золотой портсигар, предложил угоститься мистеру Паркеру и закурил сам, — и поселил ведь их в Лондоне надежно, с умыслом: где же скрываться слугам дьявола, как не в любимом им Олд-Николс-стрит, а верно?
Детектив, выпустив струю ароматного табака, шутливо ткнул мистера Паркера локтем в бок. Обладатель двух огромных револьверов традиционно ухмыльнулся и аккуратно засунул сигару в подкладку котелка.
Что общего имелось у предводителя сил тьмы с Олд-Николс-стрит, мистер Кулидж знать не знал, но догадался, что речь идет о каком-то местном, столичном поверье. Еще недавно такой поворот разговора послужил бы для моего друга непременным поводом поспорить с собеседником и попытаться убедить того в отсутствии каких бы то ни было сверхъестественных сил, но сейчас, немало тому дивясь, он осознал, что уже не так уверен в собственном, ранее столь твердом атеизме.
В страшное место занесло меж тем экипаж мистера Смити. Старые однообразные дома-коробки, словно бы сваленные исполинской рукой в безобразную кучу, глухие кирпичные стены, копоть, грязь, невнятные крики и стоны, приглушенные футами кладки; воистину доктор Кулидж еще не ведал Лондона, лишь теперь великий город приоткрыл ему душу и оказалась она чернее самой черной ночи.
Экипаж замер на перекрестье двух кривых проулков у одного из бессчетных, безликих, уродливых зданий. Пожелай доктор отыскать его, не смог бы, да и вообразить такое желание в нем совершенно невозможно, до того напугала его изнанка столицы. Тем более странным стало открытие, сделанное Огастесом Кулиджем, когда вылез он из хэнсома следом за мистером Шерером и мистером Паркером. Оглядываясь по сторонам и ужасаясь царившим вокруг нищете, убожеству и запустению, в сравнении с которыми виденное им ранее в Ист-Энде казалось верхом процветания, приметил он вдруг некий рисунок на стене искомого дома. Там, последним посланием умирающей надежды чья-то рука начертала мелом голубку, летящую ввысь, к невидимому солнцу. Доктор впоследствии особенно вспоминал ее, видно крепко в память ему запала. Отродясь не видал картины лучше, говаривал, ибо создавший прекрасную птицу на черной и липкой от сажи стене за то лишь гением может прозваться, что показал людям вокруг – солнце есть, даже когда сокрыто оно беспросветными облаками. Несколько раз пытался доктор при мне повторить тот рисунок, но ничего не получалось у Огастеса Кулиджа, рука подводила его. Не всякий, наверное, способен показать стремление к солнцу…
— Ума ни приложу, как они смогли упрятать в этом клоповнике леопардов. Впрочем, кончим людей, звери тоже не жильцы, — задумчиво произнес детектив Шерер. — Непременно будьте тут, дружище. Если что-то пойдет не так, думаю, править лошадьми Вам не впервой.
Он сунул в руки Огастесу Кулиджу нечто маленькое и блестящее, а затем пошел в сторону зияющего бесконечной чернотой подъезда, где уже поджидали его Паркер и Смити. Перед тем, как исчезнуть в доме, детектив развернулся, подмигнул доктору и бросил:
— Да, все будет нормально. Главное, не отходите от повозки, а если понадобится, просто жмите на спусковой крючок.
Оставшись один, друг мой испытал приступ страшного озноба, как будто поместили его в нестерпимо холодную воду. Глянув на оставленный детективом предмет, он с удивлением понял, что это револьверчик, видимо дамский, с коротким тупым дулом и изящной, беленькой ручкою. Как управляться с этим предметом Кулидж представлял смутно, а потому отбросил его подальше на сиденье хэнсома и даже испытал некоторое облегчение, оставшись безоружным.
Минуты сменялись минутами, вокруг царила поистине гробовая тишина, из тех, каковые обыкновенно предваряют страшную беду. Неизвестность пугает сильнее всего, и доктор, будучи человеком не чуждым сомнениям, начал терзаться мыслью о том, что нелишне быть может ему отправиться за Шерером и его спутниками. Несколько мгновений в нем шла борьба между строгим наказом оставаться на месте и желанием узнать, как обстоят дела и наконец второе победило. Упрятав револьверчик в карман пальто, он покинул экипаж и пошел к подъезду.
И в этот миг звенящая тишь резко оборвалась. Вначале, далеко-далеко, наверху, за толщей стен, послышался слабый хлопок. Потом еще один и еще и вдруг зарокотало часто, беспорядочно, непрерывно. Раздался испуганный женский крик, чьи-то ноги затопали так, что загудел весь дом и наконец вырвался наружу вместе с треском нескольких лопнувших стекол дикий, глухой звериный рык, какого никто и никогда не слышал в тех краях!
Доктор отпрянул, едва не упал в грязную, липкую жижу, заменявшую здесь мостовые, вскинул голову и увидел, как из одного из окон выскочило черной кляксой нечто огромное, гибкое и удивительно быстрое, перекинулось на крышу соседнего дома, пулей промчалось по нему, прыгнуло на другую крышу, третью и исчезло. Следом за ним, почти сразу последовало еще одно такое же нечто, но вослед ему из окна полыхнуло огнем, — раз раз и снова! – и это второе покатилось кубарем вниз, визжа и извиваясь, размахивая длиннющим хвостом. Упав оземь, шагах в десяти от доктора, оно принялось крутиться и вопить, будто жарилось на сковороде. Бедняга Огастес Кулидж, с ужасом узнавая в вертящемся существе леопарда, судорожно извлек из кармана револьверчик, зажмурил глаза, отвернулся и принялся палить в дикую кошку, покуда крик ее не перестал. Потом чья-то рука выдернула оружие из его кулака.
Уэндел Шерер был страшен; от былой, холодной элегантности его не осталось и следа. Пальто и визитка изорваны и залиты кровью, а правые рукава их вообще оторваны начисто; лицо безумное, шальное от пережитого, в глазах, смотрящих поверх треснутого, набок сидящего на носу пенсне – дикое пламя.
— Паркер мертв, Смити…, — он поморщился, зажмурился крепко-крепко и потряс головой, смахивая кровавые капли со лба, после чего продолжил, — почти, не жилец… Надо уходить или местные с нами разберутся еще до полиции.
Как бы в подтверждение слов его, этажа на два пониже того, с какого выпала дикая кошка, хлопнула оконная рама и противно заверещал что-то неразборчивое пьяный, хриплый голос. Затихший было дом, как по команде, вновь заходил ходуном, затрясся, будто бы живой и наружу подобно муравьям из муравейника стали беспорядочно выбегать люди. Шерер встрепенулся, дернул на себя доктора Кулиджа.
— Живо в хэнсом! Живо!
И лошадь помчала их прочь. Собиратель справок овладел сиденьем кучера, Огастес Кулидж забился в угол, скрючился подобно эмбриону в животе матери, зажмурился и так просидел всю дорогу.
Экипаж ехал какими-то безумными поворотами, падал в ямы, кричали вослед испуганно редкие прохожие, раздалась даже трель полицейского свистка, но детектив Шерер правил, не останавливаясь, отчаянно и безумно, будто бы торопился, причем не куда-нибудь, а на собственную смерть…
После, когда карета их замерла, как вкопанная, над доктором раздалось:
— Эй! Кулидж, очнитесь! Да откройте же глаза, будьте вы прокляты!
Пара шлепков по обвисшим, заросшим рыжей щетиной щекам и вот, будто навек сомкнувшиеся веки Огастеса Кулиджа приподнялись. Детектив Шерер стоял перед ним, а за спиною его высились построенные аккуратными уступами красивые одинаковые домики, освещаемые приглушенным светом уличных фонарей.
— Где мы? – Заикнулся было доктор, но тут заметил, как Уэндел Шерер деловито заправляет вначале свой, а затем и второй, дамский, револьверы патронами. – Что это? Зачем?! – Пискнул он и вздрогнул, загодя понимая, к чему все идет.
— Наш фальшивый капитан снимает тут квартирку вместе с пассией. Узнаете? Деревья в стороне – это Грин-парк, где Вы давеча устроили представление, — не прерывая начатого занятия, произнес детектив. – Следует закончить дельце, да и за Смити с Паркером неплохо бы поквитаться. Держите, придется пострелять еще раз.
С этими словами он вложил револьверчик с белой рукоятью в пухлые, трясущиеся лапки Огастеса Кулиджа.
— Двоих мы положили, но старик! – С отчаянием сказал Паркер. – Ах, этот старик, вот сущая сатана, ушел; его человечьего тела не было в их берлоге!
Добавив к тому еще пару слов, какие порядочному человеку вслух произносить не полагается, детектив стал вдруг неожиданно сосредоточен и невозмутим, как в момент, когда судьба свела с ним моего героя.
— Дайте, перевяжу Вас, — спохватился доктор, сунувшись в кабину за саквояжем.
— Нет времени, после, — отвечал ему Шерер. – Интересно, добрался ли Милн до супруги, впрочем, иначе грош ему цена. Теперь кошка погонится за ним, ей ведь плевать, у кого забирать своего бога и кого приносить ему в жертву. А мы перехватим ее здесь.
Детектив направился в сторону домиков и несчастный доктор, этот мой старинный друг и товарищ, бледный, как смерть и не понимающий уже решительно ничего из происходящего вокруг него в мире, ставшем настоящим адом, в который раз засеменил ему вослед.
Не успели они сделать и нескольких шагов, как слева, там, где начинался не далее чем в сотне ярдов Грин-парк, послышался хлопок, до боли похожий на выстрел. Кто стрелял и в кого, никаких сомнений не было и быть не могло.
***
— Господи, — прошептал Огастес Кулидж, не осознав даже, что впервые за много лет произносит это слово не хулы и обличения ради, а как мольбу, сопряженную с надеждой на помощь.
Уэндел Шерер ничего не сказал, но вскинув руку с оружием, стремглав помчался на звук выстрела и друг мой последовал за ним. Дыхание несчастного доктора окончательно сбилось, легкие обжигал огонь, во рту стояла сушь и мысли его были лишь о том, как бы не упасть без сил, поскольку случись такое, встать вновь он не сможет.
Они приблизились ко входу в парк: огромным, черным воротам из чугунных с позолотой прутьев. Прямо подле них лежал, странно завалившись на бок, кэб. Одно колесо его медленно вращалось, жалко поскрипывая, а рядом, путаясь в упряжи, билась простертая на земле лошадь — не издавая ни звука, лишь рыхля почву копытом, да косясь по сторонам безумным глазом.
— Не успели… — выдохнул Шерер, остановившись осмотреть экипаж, но тут опять прогремело выстрелами и он побежал на звук, увлекая примером доктора Кулиджа.
Еще пара десятков ярдов прочь и вот – до боли знакомая прерывистая борозда, выпуклые капли крови, которые никак не хотела впитывать земля, клочья чего-то темного, то ли одежды, то ли плоти, поди разгляди. И одинокая женская фигура впереди и сбоку, там, где выстроились стеной древние платаны.
Изабелла Дюпон часто и мелко дрожала, вытянувшись, словно струна и выставив вперед обе руки, соединенные на непомерно большом, явно не по ее скромным силам, револьвере. Странно, но именно такой: тонкой, в строгом длинном платье и шляпке с широкими полями и вуалью, с оружием, она казалась особенно беззащитной, тем более перед противником, с которым ее свела судьба.
Напротив нее, под стволом дерева, притаился зверь. Страшный, непомерно огромный хищник был ранен: в правом плече у него и далее, в боку, зияли две кровоточащие дыры и оттого леопард трудно и тяжко дышал, вывесив длинный язык, пронзая людей ненавидящим, диким взглядом. Оно уже добилось чего хотело, это чудовище, ведь под когтями его находилось переломанное человеческое тело, от коего целым не осталось почти ничего, кроме странным образом сохранившегося лица Седрика Милна, удивительно спокойного, несмотря на перенесенную им страшную, смертную муку.
— Старик? – Выдохнул Уэндел Шерер, поравнявшись с дамой.
Изабелла Дюпон кивнула. Леопард повел раненой лапой, оттого мертвец под ним шевельнулся и голова его качнулась по сторонам, словно призывая не делать ничего больше, прося отступить. Женщина задрожала еще сильнее, казалось, оружие сейчас выпадет из ее рук и, видимо понимая сама – надолго ее не хватит, — она выстретила.
Револьвер два раза громыхнул и затих, а она, подобно доктору Кулиджу совсем недавно, все жала и жала на спусковой крючок. Леопарда тряхнуло, но он устоял, собрался в пружину и совершил последний свой, отчаянный прыжок.
Доктор и детектив пальнули одновременно: первый, обуян ужасом, в отчаянии и едва ведая, что творит; второй, хладнокровно, расчетливо, будто по мишени в тире. Зверь вскрикнул почти человеческим голосом, тело его завертело в воздухе и он пал к ногам так и не шелохнувшейся женщины. Мертвый.
Едва это произошло, револьвер ее скользнул вниз и она, переступив негнущимися ногами исковерканную пулями кошку, приблизилась к телу Седрика Милна. Закрыв распахнутые, оловянные глаза его, она извлекла из под покойного наделавшую столько бед деревянную статуэтку, после чего медленно, как сомнамбула, пошла прочь по дорожке между рядами деревьев.
— Куда вы? – Спросил Шерер.
Миссис Дюпон остановилась.
— Отвезу это туда, где оно и должно быть. Ему не место среди северных ветров и туманов, ему здесь холодно. Оно здесь чужое и все здесь чужое ему.
— Надеюсь, вы останетесь живы. И Ваш ребенок тоже.
— Обо мне думать не надо. С сыном все будет в порядке. Когда Седрик не вернулся вовремя, я поняла, надо ждать беды и позаботилась о маленьком, впрочем… Вас это не касается.
Шерер пожал плечами. Вдали послышалась пронзительная трель полицейского свистка. Миссис Дюпон, вознамерившаяся как будто уйти, вернулась вдруг назад, подошла к остолбеневшему Кулиджу и неожиданно нежно коснулась тонкой, изящной ладошкой его поседевших волос.
— Милый, милый доктор, — торопливо, с болью в голосе заговорила она, беспокойно его оглядывая, будто стараясь насколько возможно надежнее запечатлеть в памяти. – Вы здесь совсем не причем, мы втянули вас в эту историю нежданно, без умысла, мы испортили вашу жизнь, сделали ее невыносимой. И я безмерно признательна вам за проявленную обо мне заботу, за бессонные ночи, за принятые роды и поверьте, благодарю, стоя на коленях… и все же, — Изабелла Дюпон обоими ладонями обхватила щеки Огастеса Кулиджа, так, что он не мог даже шевельнуться и оставалось ему только смотреть на нее, покуда она жалила его глазами, ставшими вдруг раскаленно-острыми, как копья, как нагретые на огне вертела, — раз уж судьба распорядилась так, что эта проклятая статуэтка попала к вам, именно вы должны были умереть, вы, а не единственный мужчина мой, вы один, а не люди, заплатившие жизнями своими за жалкую пародию, какую вы называете жизнью своею, а потому… Будьте прокляты…
Изабелла Дюпон вцепилась в губы мистера Кулиджа долгим, жгучим поцелуем, затем отпрянула, плюнула ему в лицо и торопливо пошла прочь.
Свист раздался еще ближе. Доктор, полон отчаяния, приподнял правую руку с зажатым в ней револьвером. В тот момент она показалась ему чужой, будто не его. Вместо облегчения, испытываемого обыкновенно человеком, побывавшем на границе жизни и смерти, почувствовал Огастес Кулидж еще большее, чем в предыдущие дни, опустошение. Смешавшись с усталостью, оно образовало в нем новое чувство, трудно выразимое словами, превосходящее стократно самую страшную тоску. Нежелание жить, так назвал его после некоторых размышлений доктор, пребывая по окончании описанных злоключений у меня в гостях. Полное, абсолютное, исключающее любые иные решения, нежелание находиться более в этом мире. И рука, все еще сжимающая маленькую перламутровую рукоять, сама потянулась к виску.
— Ну-ну, — голос Уэндела Шерера ворвался в сознание моего друга, подобно порыву ветра. – Не нужно глупостей.
Толкнув безжизненное тело зверя ногой, он мягко забрал у моего приятеля оружие и поспешно увлек его за собой в глубь парка.
— Мой вам добрый совет: забудьте обо всей этой истории, начисто, совершенно. Выкиньте ее из головы, в противном случае память о ней сожрет вас. Отоспитесь, а потом отправляйтесь домой. Пациенты в Уайтхеме явно заждались.
***
Мною кажется упоминалось ранее, что доктор Огастес Кулидж, безвестно пропав из Уайтхема, так же тихо и незаметно вернулся обратно? Получается, я невольно перепрыгнул из начала в конец, но, ведь на деле часто выходит, что не человек думает, как написать рассказ, а рассказ диктует человеку, как себя записывать. Сейчас, на последних строках, позволю себе остановиться на прибытии моего друга и его последующей жизни немного подробнее.
Как я был первым, кто узнал из письма доктора о намеченной им авантюре, так я же оказался и первым, кто встретил его в родных краях. Огастес Кулидж нанес мне нежданный вечерний визит, видимо даже не заходя домой, а будучи прямо с поезда и случилось это примерно через месяц после смерти Артура Дюпона.
Говоря откровенно, я с некоторым затруднением узнал приятеля, до того странный вид он имел. Бледность лица доктора, седая паутина в волосах и некогда румяные и пышущие здоровьем, а ныне ввалившиеся щеки, безусловно удивили меня, но поистине потрясло другое. Весь он был словно истощен внутренне, будто душу его взяли и вытянули вон, оставив лишь пустую оболочку. Замкнут в себе, растерян, с отстраненно-жалостливой улыбкой человека, часть коего, причем важнейшая, умерла – вот каким он предстал моим глазам.
Разумеется, пусть визит Огастеса Кулиджа и оказался нежданным, оттого он не стал менее радостен и желанен. Я даже не поинтересовался сразу причиной удивительного его исчезновения, хотя был терзаем любопытством, а просто предоставил другу сытный ужин и теплую постель. Потом, дни спустя, когда резонные страсти, сопровождавшие его возвращение несколько улеглись, Огастес Кулидж сам поведал о собственных злоключениях и вышло так, что я оказался единственным, кто узнал о них во всех подробностях.
Доктор взял с меня честное слово никому больше о них не говорить, во всяком случае до его смерти, а уж после решать по собственной воле. Он почему-то пребывал в уверенности, что отойдет в иной мир весьма скоро и никакие доводы в обратном (вот хотя бы та же его относительная молодость в сравнении с моим возрастом) не могли изменить такого мнения. И надо отметить, как это ни прискорбно, но предчувствия Огастеса Кулиджа полностью оправдались.
Пару следующих лет друг мой вел тихую и спокойную жизнь в Уайтхеме. Он даже пользовал некоторое время пациентов, однако постепенно практика его сокращалась все больше и больше. Одномоментно с тем росли в нем замкнутость, отрешенность, стремление отстраниться от общества, явно начинавшего тяготить его. Даже со мной доктор Кулидж виделся все меньше и меньше. Наш почти ежедневный обмен визитами стал еженедельным, потом он перестал ездить ко мне, а когда однажды я заявился к нему, миссис Оллсоп сослалась на его нездоровье и я понял, что стал нежелательным гостем.
Разумеется, подобное поведение в любом месте, подобном нашему, где люди, как говорится, наперечет, не могло не вызвать очередных кривотолков, обсуждений в лавке миссис Баркли и перемываний косточек в тесных компаниях за вечерним чаем. Не будучи любителем сплетен, я не принимал во всем этом участия. Вместо того, я постарался поддерживать отношения хотя бы с миссис Оллсоп и она, разумеется, волнуясь не меньше моего, извещала меня о состоянии несчастного Огастеса.
Выходило, что целые дни проводит он в состоянии глубокой задумчивости, либо читая, либо делая зарисовки в саду, а то и просто, сидя у окна и созерцая природу. Вывести его на беседу, пусть даже и абсолютно невинного характера, касаемо к примеру, выбора блюд на ужин или чего подобного, становилось все труднее. Со временем, констатировала с прискорбием домоуправительница, молчание Кулиджа стало абсолютным.
Я пробовал общаться с ним посредством записок, но отозвался он только на первую, причем не письмом, а наброском барбарисовых кустов, в тени ветвей которых угадывался силуэт большой, гибкой кошки с длинным хвостом. Получив такой ответ и более не дождавшись ничего, я потерял всякую надежду увидеть вновь моего друга, а он видимо утратил желание жить. Огастес Кулидж, милый доктор, угасал, таял, как догорающая свеча.
В самом начале восемьсот девяносто первого он тихо скончался, сидя по обыкновению у окна. Просто глаза его закрылись, и надломленная подобно сухой тростинке душа отлетела в небеса.
Будучи по завещанию назначен душеприказчиком покойного, я выяснил, что оставленного им состояния не хватит даже на проведение похорон. Видимо, почти все денежные средства, которыми он владел, пошли на оплату услуг мистера Шерера и потому доктор Кулидж был предан земле за общественный счет.
Интересуясь явными пробелами в записях, сделанных мною со слов покойного, я направил детективу Шереру в Лондон письмо. В нем содержалась просьба пояснить некоторые моменты, касательно описанных событий, как-то: знает ли мистер Шерер что-либо большее об аниото и их странном культе; известно ли ему про обстоятельства знакомства Артура Дюпона с Седриком Милном и семьей ван Вейков; найдено ли было тело четвертого из аниото – того самого, последним погибшего старика; как вышло, что во время бегства Милна, закончившегося его погибелью, рядом оказалась Изабелла Дюпон, но не было ребенка; какова судьба этого дитя и чье оно, кого именно из двух роковых для жизни Изабеллы мужчин; в конце концов, знает ли он, что сталось с миссис Дюпон, жива ли, здравствует?
Первое время я страстно ждал ответ и едва не ежедневно посещал почту, но поскольку известий не было, постепенно забросил это дело. Спустя примерно месяц или два, когда отправленное мною письмо сделалось, как говорится, достоянием истории, послание из столицы все-таки пришло.
Вскрыв конверт, я увидел чек на довольно крупную сумму, вполне достаточную для возмещения расходов на погребение, а также небольшую записку.
«Соболезную по смерти мистера Кулиджа. С уважением, У. Шерер», вот и все ее содержание. Об ответах на мои вопросы ни слова, будто и не было их вовсе, а это, согласитесь, весьма показательно.
Должен отметить, что жизнь доктора Огастеса Кулиджа, такая обыденная, традиционная, казалось, совершенно исключающая всякие неожиданности и потрясения, и такая необыкновенная в момент, близкий к своему завершению, долго волновала Уайтхем. Те из жителей его, кто выписывали центральные газеты, безусловно знали о странных событиях, случившихся в Лондоне: гибели полицейского, таинственной перестрелке на Олд-Николс-стрит и не менее таинственном происшествии в Грин-парке. Парочка из этих читателей, особенно дотошных, в частных беседах даже связала их с отсутствием доктора в нашем городке, что впрочем, большинство категорически отвергло, несмотря на явное сходство столичных происшествий со случаем в «Доме на холме».
Сам я долго думал, стоит ли предавать гласности известное мне от доктора и наконец, как видно из этих строк, решился на такой шаг – а к пользе ли, во вред, кто знает.
Буду честен, дописав историю злоключений Огастеса Кулиджа, я пришел к выводу, что не столь уж и важно, получены ли будут ответы на мучавшие меня лакуны в его судьбе; в конце концов, никому из нас не дано знать все. Но человек на все может надеяться. Вот и я, не ведая, принимает ли Господь в объятия свои безбожников, уповаю, что на том свете мистер Кулидж обрел долгожданные веру и покой.
Конец