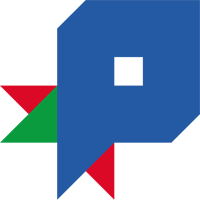Ветер зимы бродил вокруг дома, затекая в форточку, становился зримым в движении штор. Во дворе полковник шагал сквозь ветер к автомобилю – Нина Николаевна наблюдала за ним в окно. Автомобиль его стартовал отфыркиваясь, будто чертыхался. Был он и сам человек грубоватый…
– Купил бы когда конфет, – вздыхала Нина Николаевна, потягивая на ночь чай с остатками выпечки.
Полковник имел пристрастие к ее пирожкам с капустой…
Ветер зимы играл залетевшей на балкон случайной тряпочкой, рвал ее в лоскутки. И этот рваный флажок, зацепившийся за трубу, бился сигналом бедствия, рождая стыд за неуместный немой крик о помощи…
Заезжая на чай, полковник всякий раз предлагал Нине Николаевне выйти за него замуж:
– Квартиру твою сдадим, сами поедем отдыхать в военный санаторий. На юге бывала?
– Бывала. Сто лет назад.
Нине Николаевне шел семьдесят первый год. Полковник был чуть постарше.
– При коммунистах небось бывала? – полковник гнул свою линию. – При них и учительница могла отдыхать на юге.
– Коммунисты нам забор исписали перед выборами, – тихо заметила Нина Николаевна. – Притом с грамматическими ошибками…
– Значит, места не дают людям для агитации. Потому и на заборе…
– Ладно, неважно это, Петр Иваныч, – а что в ее отказе было на самом деле важно, Нина Николаевна и сама толком не знала.
– Вот, например, я помру, – деловито продолжал полковник. – Тебе пенсия будет большая.
– В одиночестве помирать скучно? – невеста язвила, поправляя прическу.
– Дура ты! – полковник начинал злиться. – Я тебе жить предлагаю, жить! Помереть успеем, а что там еще впереди – все это тоже жизнь. Имя существительное, как там вы в школе учите… Существует, то есть. Вот ты именно что на пенсию свою существуешь.
– Я еще работаю, между прочим.
– Работает она! Тебе давно отдыхать пора. В санаторий съездим… Или тебе не работать стыдно?
Нина Николаевна прикусила язык – оттого, что в последнем он был действительно прав: работала она еще и потому, что дармовой хлеб есть было как-то подспудно совестно.
– Я уже на кладбище у жены побывал. Вот, говорю, Мила, оставила ты меня, а я теперь за Ниночкой хочу поухаживать… Свежую могилу еще заметил у самого входа: Самохин помер, с которым мы на границе служили. У него еще тесть повесился, ну, я тебе рассказывал… Это тот Самохин, что нарушителя пристрелил, когда он в коровьих копытах за кордон попер. В тот год еще прапорщик Щеглов от водки сгорел, как у него жена к повару ушла…
– Люди нас не осудят? – Нина Николаевна вскинула усталые глаза. – Ровесники на кладбище, а мы…
– Тебе, кстати, к зубному не надо? – вспомнил полковник Петр Иваныч. – Хороший протезист. Я завтра иду – хочешь, составлю протекцию? У тебя сколько своих зубов осталось?
– Немного.
– У меня всего два. Передние в Заполярье еще потерял, когда наш гарнизон забыли по ошибке довольствием обеспечить. Два месяца на мороженой картошке… Коренные остались, и те под коронкой. На них держится мост. Могу снять-показать…
– Нет, не надо, – Нина Николаевна запротестовала.
– А давай съездим завтра на набережную, – полковник ударился в лирику. – Там лыжники, дети играют в снежки…
Нина Николаевну завернула ему с собой три пирожка с капустой. Полковник шел через двор сквозь ветер. И рваный флажок трепетал на балконе немым криком о помощи.
Несмотря на солнце, набережный снег казался черно-белым от проступавшей местами мерзлой земли после давешней оттепели. Лыжники скользили почти по катку в ярких костюмах – существами иножизни, где бытовал цвет. На долю Нины Николаевны давно выпадал черно-белый снег, даже лето случалось среди сплошной зимы коротко, как воскресенье среди недели.
– Что мне в тебе нравится, Ниночка, – Петр Иваныч шагал грузно, то и дело оглядываясь на оставленную у причала машину, – так это то, что ты нашей пролетарской закалки. Я бы мог себе еще молодуху взять, да эти создания нежизнестойки…
Она смотрела на него с усмешкой и думала: «Простоват», – он продолжал, улыбаясь белозубо солнцу и снегу:
– Вот я наблюдал, как ты моешь посуду – яростно, как будто кому-то мстишь. Вот это по-нашему! В любом деле необходима прежде правильная стратегия. А уж тактика…
– Бывает слишком прямолинейна, – Нина Николаевна срезала, щурясь от яркого снега. Ей становилось скучно от пустой, хвастливой, как казалось, его болтовни.
– Нам в обход идти некогда, – Петр Иваныч нагнулся было слепить снежок, да поскользнулся и сделал вид, что просто хочет отряхнуть со штанины случайный снег. – Знаешь, в военном санатории все осталось нетронутым, как его и построили – беседки, пальмы в кадках. Кино крутят. Давно бывала в кино?
Нина Николаевна отмахнулась – не от Петра Иваныча, а от навязчивого видения, наплывавшего на черно-белый снег параллельным слайдом: море, пляж, раздетые люди, играющие в мяч, продавцы «Ситро»… Следом, записанное поверх этой немой пленки, звучало ее же голосом твердое: «Нет!» Но отчего? Когда теперь это стало вдруг неожиданно близко?
– У меня босоножек нет, – наперекор другому своего «нет» сказала она вслух.
Лыжник, неудачно совершив поворот, выскочил на клочок мерзлой земли и, неуклюже растопырив палки, носом упал вперед. Сконфузившись и поправив спозшую на глаза шапку, он стал выбираться боком, полуприсев. Поодаль человек ловил отвязавшуюся собаку… Возможно, сам день организовывал дела наперекосяк, настраивал на неспайку порывов и возможностей.
Петр Иваныч говорил в унисон:
– Сегодня с утра по радио объявляли: неблагоприятный день…
Нина Николаевна не уловила тревожной нотки, хотя он исподволь что-то искал в кармане.
– Вам кто рубашки стирает? – невпопад спросила она.
– Сам. Кто же еще? Порошки сейчас сильные. У меня и система стирки своя. Белье плавает в ванне, полощется, потом стекает на трубе, пока вся вода не уйдет, только потом я начинаю отжим…
– Вот это неправильно: вода стекает, а грязь как раз остается.
– Я и глажу сам, – продолжал полковник. – Это тоже собственное изобретение. Знаешь как? Белье чуть подсохнет, я его в корзину, а сам сверху сажусь телевизор смотреть. Очень получается гладко…
Нина Николаевна прикидывала беззлобно в уме, что он же просто уставший от одиночества человек, и грубоватость его следует из стеснения, и болтливость – из вынужденного молчания, и что не она, а он выбрасывает флажок бедствия… Но что же конкретно, что не пускало ее ближе к этому неплохому в сущности человеку?
– Пойдемте обедать, – она устала от его бесконечных оглядок на оставленную машину. – Котлеты…
– Я часто «Киевские» покупаю.
– У меня котлеты домашние, с чесноком.
– Вот-вот, именно, я им даже заявил в магазине про эти котлеты: «Чеснок в мясо кладут еще по одной причине: тухлятину перебить».
Нина Николаевна вспыхнула:
– Ну, знае…
Полковник Петр Иваныч странно ткнулся в дерево носом, как-то даже по-детски, будто стараясь скрыть слезы, и стал медленно сползать по стволу, одновременно пытаясь попасть рукой в боковой карман…
– Дай, дай,.. – опять по-детски вырвалось у него…
Нина Николаевна, сообразив, нырнула в его карман и непослушными от холода пальцами вслепую начала шарить, отыскивая круглую, должно быть, баночку… Наконец повезло. Зубами подцепив пробку, она высыпала на ладонь таблетки и тут же принялась втискивать ему в полураскрытый рот, между протезных зубов. Полковник сглотнул, потом выдохнул долго, замолчал, сидя на снегу у дерева без дыхания. Глаза жили – по тому, как тоскливо смотрел он белый покров озера с редкими черными фигурками, похожими на гигантских грачей. Прошло много тягучих минут, в течение которых мимо них без оглядки скользили яркие чужие лыжники. Полковник вдруг произнес:
– Рыбаки, гады… Ну что за радость: сидеть и ждать рыбу?
Нина Николаевна принялась смеяться. Смеясь протянула полковнику руку, он дернул, и она повалилась в снег рядом с ним.
– Я же говорил: вот Нинка — наша девушка. Боевая подруга. Не растерялась.
– Дурак ты, Петр Иваныч!
– Дурак: чуть было не откинул коньки. Вот бы напугал, да-а…
– Идти-то можешь?
– Могу. Пошли давай. Да не туда, к машине.
И на всем протяжении пути Петр Иваныч поварчивал:
– Чего уцепилась? Не дерево подпираешь. Будто я сам не дойду.
Через полчаса казалось так, что приступ его прошел бесследно. Они стояли у перил набережной, полковник грубовато командовал, какие еще дела планировались на конец дня.
Осуществился, однако, только обед, ну, еще фильм по телевизору, где беспрестанно целовались, как-то поедая друг другу губы. Смотреть на это было неловко, и снова начала прорастать между ними разность, чуждость и незнакомость, хотя вот-вот было наметился перелом…
В прихожей у зеркала, поправляя шарф, полковник помедлил, сунув руку в карман. Нина Николаевна успела испугаться, не повторится ли приступ…
Петр Иваныч сказал:
– В общем, ты решай, Нина. Я развалина старая, рухлядь. Сама видишь. Толку-то с меня, что разве большая пенсия… Эй, да что говорить!
Махнув рукой, он ушел.
Нина Николаевна смотрела в окно, как полковник идет через двор к машине. Шагал он грузно, наподобие старого зверя. Ей же было странно легко, как если она наконец нашла решение задачки. Прильнув к стеклу щекой, Нина Николаевна повторяла сухо, без слез:
– Прости, Петр Иваныч. Я тебя не люблю. Прости.
Январь 2000