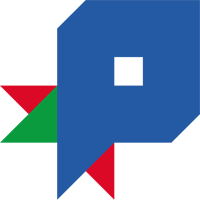Рассказ
1
В начале апреля двухтысячного года репортер городской газеты Юля Зайцева выехала в Великопойминский район оформлять собственность на дом.
Купить «домик в деревне» предложил ей сосед по лестничной площадке, пенсионер Михалыч. И это предложение удивительным образом совпало с желанием Юли вложить во что-то стоящее свою заначку – тысячу баксов. Тем более хор сослуживцев, подруг и всяких умных людей напевал с утра до вечера одно и то же: инфляция, инфляция, инфляция… покупать, покупать, покупать… собственность, собственность, собственность…
Михалыч представил Юле план деревни с симпатичным названием «Березовка» и черно-белые фото крепкой избы-пятистенка с огромной березой, прильнувшей к ее фасаду. «Вот же я, внизу… – тыкал Михалыч пальцем в снимок. – Нашу березу еще москвичи приезжали фотографировать…»
Однако узнать соседа было мудрено: на фоне дерева-великана он казался совершенным пигмеем. Но сама береза была так хороша, что если у Юли и были сомнения – все же «домику» сто лет – то теперь они окончательно развеялись.
«…Кто ж не знает, что береза признана священным деревом, что за ней во время бури укрывались… Да, да – Христос и Богородица! И, значит, береза будет нашим оберегом…» – убеждала Юля своего мужа, преподавателя «кулька»* Игорька.
Увы, Игорек был не только упертым атеистом, но и столь же упертым урбанистом и просил Юлю не делать глупостей. То есть перво-наперво, не покупать дом. Да притом такой дряхлый. Да притом удаленный от цивилизации. Да притом, в самое разбойное время, когда лучше жить среди своих, чем среди чужих. Главным же доводом Игорька было то, что у Михалыча отсутствовали два необходимейших для сделки купли-продажи документа: паспорт на дом и паспорт на землю. «Даже если все документы в порядке, и то намучишься по очередям. А уж если чего-то не хватает… Зря время потеряешь», – поучал Игорек по принципу старшинства супругу, моложе его пятью годами.
На самом деле чиновничья волокита была для Игорька лишь предлогом. На самом деле у него были свои виды на Юлины баксы: он мечтал купить кинокамеру и снимать на коммерческой основе свадьбы, школьные балы и детские утренники. Впоследствии на вырученные деньги купить «мерс» и основать солидную фирму, может быть, даже – звукозаписи. Однако жене он до поры до времени о своем бизнес-плане не говорил, боясь с ее стороны насмешек.
– Я категорически не понимаю, – с видом трагика смотрел Игорек на Юлю. – Зачем стремиться в старину, когда все тянутся в новизну. Почему у тебя не «Время – вперед!», а «Время – назад!»…
Да потому, вскипала Юля, что ей обрыдла эта новизна, эти кремлевские обманки, это – купить подешевле, продать подороже… Она хочет очиститься, духовно возродиться, что возможно, лишь в тишине, наедине с природой и рядом с не испорченными современными нравами крестьянскими людьми.
Но на самом деле Юля помимо прочего хотела подстегнуть самолюбие мужа, зарабатывавшего раза в два меньше, чем она: вот, мол, как надо жить и как становиться собственником «домика в деревне».
Вскоре Юля получила от Михалыча доверенность на совершение сделок, а к ней – ценный совет: не ходить в чужой монастырь, то есть в Великопойминский район, где находилась Березовка, с новомодным уставом. Так Михалыч называл права человека, позаимствованные россиянами, как считал он, «у западных людишек». В чужом монастыре, – учил он будущую собственницу уму-разуму, – нужно придерживаться дедовского правила: не подмажешь – не поедешь.
Михалыч также рассказал, что свое название Великопойминский район ведет от реки Великой, на берегу которой стоял когда-то нынешний райцентр, а в прошлом обыкновенная деревня. Но в начале пятидесятых по неизвестной причине вода стала уходить (Михалыч предположил, что местную воду перекачали в Волгодон*). Через какое-то время на месте реки образовалась плодороднейшая пойма, прославившаяся своими запредельными урожаями картофеля и живописными видами.
2
Однако никаких таких видов Юля не наблюдала, сколько ни всматривалась в окно еле ползущей электрички. Зато лезли в глаза мусорные завалы на железнодорожной насыпи: словно отходы всей химической и пищевой промышленности страны нашли здесь свое последнее пристанище. Но, похоже, никого из пассажиров, кроме нее, это не волновало. И, глядя на неподвижные, будто вырубленные одним скульптором лица великопойминцев, она представлялась себе сталкером, направляющимся на разведку в неизвестную опасную зону. Тем приятнее было по прибытии в райцентр обнаружить родство душ: местные жители, как и Юля, чтили русскую классику.
Привокзальная площадь в Великой Пойме носила имя критика Добролюбова, улицы же были сплошь писательские: Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Льва Толстого. Горького… И бог весть, почему короткую, всего в пять домов, улицу нарекли Маяковской, а длинной, растянувшейся чуть ли не на километр, присвоили имя поэта-лирика Фета.
На Пушкинской Юле пришлось обойти огромную, в жирных бензиновых пятнах, ну прямо-таки миргородскую лужу, в которой плескались две роскошные утки. А на улице буревестника революции из окон почтенных учреждений, типа – банк, собес, «Недвижимость»… – то и дело вылетали вороха бумаг. Кстати, одна из бумажек села Юле прямо на голову, и она прочитала:
«В соответствии с п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса, самовольной постройкой является жилой дом или другое капитальное строение, созданные на земельном участке, не отведенном для этих целей и без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил…».
Эх, подумала Юля, до чего же канцелярит расходится с художественным словом. Не удивительно, что народ отдает предпочтение великой русской даже в названиях улиц: он знает, он чувствует заповедное…
Она машинально сунула бумажку в карман куртки и стала уже целенаправленно искать нужные ей учреждения – гостиницу и архив. В архиве она надеялась получить справку об имуществе матери хозяина дома – Елизаветы Степановны Шепелевой – аж за 1930-й – год ее вступления в колхоз «Ленинский путь», куда она, по требованию правления, сдала молотилку, корову, пять овечек, оставив себе лишь срубленный покойным мужем дом да пару куриц с петухом. Без этой справки, сказали Юле еще в областном БТИ**, купля-продажа может не состояться.
– Доча, тебе чего? Может, молочка? Рынок сегодня дюже плохой был, одну четверть токо продала… – окликнула Юлю совсем по-родственному бабуля, ставя на тротуар тяжелую хозяйственную сумку.
– Я, бабушка, архив ищу да где переночевать.
– Это к Ильичу. Вон туда, – и бабуля неопределенно махнула рукой. – Токо он справок не дает.
«Ну и на кой фиг мне тогда ваш Ильич?» – мысленно ответила Юля, уже прозревая что-то художественно-фантастическое в самом образе мышления великопойминцев.
– Я бы взяла тебя, доча, к себе, копейка лишняя не помешает, да боюсь… Лихих людей теперь много, ох, как много. Ты, родная, по ночам-то здесь не больно ходи, – и бабуля, охая и кряхтя, отправилась восвояси со своим нераспроданным товаром.
3
«Ильича» знали все. И спустя несколько минут Юля уже стояла у подножия одетого в бронзу вождя революции. Вождь был инвалид – с одной рукой, и весь, с головы до ног, обмазан… ну этим самым… птичьим. Указующий перст его единственной руки был направлен на трехэтажное типовое детище советских архитекторов – Великопойминскую районную администрацию. Свинцовый фон здания замечательно контрастировал со сверкающей белизной итальянских оконных стеклопакетов.
Юля с трудом открыла тяжелую дубовую дверь, и тотчас широкоплечий, мордастый тяжеловес в камуфляже с нашивкой на рукаве «госохрана» преградил ей путь. Юля протянула журналистское удостоверение и спросила насчет архива. Охранник подозрительно посмотрел на нее, сверил фото с лицом и, возвращая документ, нехотя, словно через силу (уж до чего ему не хотелось пропускать эту журналистку!) проскрипел: «В конце коридора, рядом с туалетом»
Наконец-то! Наконец-то по-человечески сделаю свои человеческие дела, – обрадовалась Юля (в туалет электрички можно было зайти разве что в противогазе и в спецодежде). Однако на двери под табличкой «ООО» была приписка: «Только для сотрудников администрации». Юля дернула за ручку: так и есть – «ООО» оказался на замке. Ладно, не за тем и приходила, – смирилась Юля и повернулась к двери, на которой от руки было нацарапано «Великопойминский госархив», а ниже – «Стучать!» Что Юля и сделала. После некоторого промедления ей ответил бесполый, с простонародным прононсом голос – «Входите!».
4
За столом узкой как пенал комнатки с таким же узким зарешеченным окном сидел некто в мертвецки синем сатиновом халате и в вязаном колпаке и что-то писал. Юля деликатно кашлянула. Некто повернулся и уставился на Юлю длинным, кривоватым носом.
– Вы заведующий архивом?
Некто хмыкнул:
– А чего бы я тут сидел.
Юля едва успела высказать свою просьбу, как архивист трижды сказал «нет».
– Видите, – и он обвел взглядом тесные стеллажи с папками. – Нет места. По новой инструкции документы хранятся два года. А у нас – не больше месяца.
Не подмажешь – не поедешь, вспомнила Юля совет Михалыча и, покраснев, сказала:
– Я в долгу не останусь.
И на всякий случай дала подержать хозяину архива свое журналистское удостоверение.
– Зайцева? – с любопытством рассматривал он удостоверение. – Жидковато для журналиста. Вот Лев, так уж это всем зверям зверь.
– Ну не всем же львами быть, – сдержанно заметила Юля.
– Согласен, – отчего-то загрустил архивист. – У нас тоже была одна… птица…
Тут архивариус скривился, словно надкусил зеленую падалицу.
– Дроздова… Может, слышали про такую?
Юля прикрыла зевок ладошкой:
– Понятия не имею.
– …Хорошо начинала, подавала надежды… Но нет, сбилась с пути, счеты стала сводить. Да ладно бы только со мной! – мол, архив распродаю, – а то и с малой родиной… И даже…
Тут архивариус перегнулся через стол и прошипел, опасливо косясь по сторонам:
– …с самой Москвой. Мол, это другая страна, не наша… Представляете! Раньше бы за такое…
Юля, уже не скрывала напавшую на нее зевоту:
– А где она теперь, ваша Дроздова?
– Моя? – архивариуса даже передернуло. – В гробу я ее видел… в белых тапочках.
«Да… – подумала Юля, только что начитавшаяся недавно разрешенного Фрейда, – тут явно проблема с либидо…»
– …Где же ей быть, диссидентке этой… – разливалась желчь по лицу архивариуса. – Ясное дело – за границей… У нее в Жмеринке родственники какие-то… Пятая вода на киселе… Вот она и укатила к ним на киселя… Теперь их на чистую воду выводить будет.
«О берега Жмеринки разбиваются волны мирового океана», – вспомнила Юля слова великого комбинатора, и это воспоминание мгновенно настроило ее на нужный тон.
– Пожалуйста, удостоверение, – прибавила она металла в голосе.
– Да вы не сердитесь, – уже миролюбиво сказал архивист, возвращая удостоверение. – У нас журналистов, вообще писателей… очень даже уважают. Заметили, наверно: в Пойме кроме вождя ни одного революционера, только писатели. Да я и сам пописываю. Тут… – и он похлопал по папкам, – клондайк! Пиши – не хочу! Хоть про ГУЛАГ, хоть про колхозы… Но я и нынешнее собираю… Нынешнее даже интереснее… Лет через тридцать… Если, конечно, доживу, этим документам цены не будет… Вы вот что… пока погуляйте, а мы тут покумекаем. Может, что и придумаем.
5
Кто это «мы», Юля не поняла. Но на всякий случай купила в продмаге, тут же, по соседству с архивом, «Сухарик» – бутылку местной водки, настоянной «на ржаных сухарях», и коробку «Земфира в шоколаде», которую по пути к Ильичу, оставила охраннику.
К ее удивлению, двери «ООО» были распахнуты настежь. Юля с интересом заглянула в это таинственное, предназначенное для «элиты» заведение и… глазам своим не поверила: стены в мраморе, душ, зеркальный шкаф-купе… К нему – три стоящих в ряд «очка» – три великолепных немецких унитаза. Да, подумала Юля, сидеть на таком «престоле» могли только избранные.
Внезапно дверцы шкафа разъехались, и из него, как черт из табакерки, выпрыгнул архивист с потрепанной бумажной папкой в руках.
– Вот! – стукнул он по папке, так что кверху поднялось облачко пыли. – Здесь она, родимая.
Архивист закрыл на ключ «ООО», и Юля снова оказалась в пенале. В считанные минуты справка с перечислением имущества Елизаветы Шепелевой на 30-й год была готова. После чего, заверив справку печатью и штампом, архивист протянул документ Юле, но не отдал, а придержал. И так они держали эту справку – лист формата А-4 – с обеих сторон, пока Юля не вспомнила о «Сухарике». Выпустив справку из рук, она достала бутылку из рюкзака. Архивист укоризненно покачал головой:
– Вы знаете, сколько на Западе такая справка стоит?
Юля не знала и потому на всякий случай присовокупила к «Сухарику» два стольника*. Архивист заметно подобрел и представился:
– Иван Ильич, для вас просто Ильич, в прошлом предрик**.
– Предрик?! – рассмеялась Юля: слишком уж расходился образ труженика архива с теми партийно-советскими тузами, что ей доводилось видеть в кинохронике.
– Чего вы смеетесь? – обиделся Ильич. – Между прочим, при Советах всё здание было мое, и все меня слушались и уважали. А при Ельцине вон куда выселили… На Камчатку… Туалет ихний я должен охранять.
Ильич издал пару коротких гортанных звуков, что, видимо, выражало крайнюю степень презрения.
– Зато теперь знаю, кто сколько раз на горшок ходит. Глава администрации обычно утром и после работы, в обед дома предпочитает. Заместитель главы вообще редко наведывается, разве уж если пивка перепьет. А вот завотделом культуры каждые полчаса бегает. Не работа, а сплошной туалет.
– Вы извините, – кашлянула Юля. – Мне бы тоже… Я заплачу. – И она положила на стол десятку.
Ильич снял со стенда ключ и с отеческой улыбкой, с какой он, наверное, когда-то исполнял свои предриковские обязанности, протянул его Юле:
– На здоровье!
6
Облегчившись и освежившись душем, Юля почувствовала себя человеком, и, отдавая ключ, уже внаглую спросила:
– Иван Ильич! Может, подскажете, как в гостинице с номерами.
Нос Ильича пришел в движение, шумно втянул воздух:
– С местами плохо.
Юля достала еще сто. Ильич тут же начал звонить какой-то «Ларочке» – и Юле был обещан номер хотя и без «удобств», но отдельный и с видом на главную райцентровскую площадь.
На прощанье она спросила Ильича:
– Это вы как предрик утверждали названия улиц?
– А то кто же! – самодовольно улыбнулся Ильич.
– Хотелось бы знать, чем провинился перед вами мой любимый писатель?
– Да вроде никого не забыли, – и экс-предрик стал загибать пальцы: – Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Добролюбов, Гоголь, Маяковский…
– А Салтыков, он же Щедрин где?
– Так это не писатель.
– Кто же, по-вашему?
– Пасквилянт, – уверенно сказал Ильич. – Всех замазал своим глуповским городом. Как будто у нас ничего хорошего нет, а все только у заграничных. Вот какой подлый человек оказался. Родину предал.
Юля попрощалась с любезным Иваном Ильичем и поспешила в гостиницу, находившуюся в двух шагах от администрации и даже почти под одной крышей.
7
Заведующая (та самая «Ларочка») – дама с остатками былой красоты, – едва Юля вошла, кинулась к ней как к родной:
– Первый раз вижу живого писателя. Может, и про наши беды напишите?
И Ларочка с самой страдальческой гримаской устремила свой взор на потолок холла (если, конечно, можно было назвать гордым словом «холл» это скверно освещенное помещение с одиноким фокусом у окна). На потолке расплывалось огромное ржавое пятно.
Юля попыталась уверить, что она не совсем писатель, и даже совсем не писатель, а всего-навсего репортер, но Ларочку было не переубедить:
– Говорят, на ремонт денег нет, сами зарабатывайте. А как зарабатывать, если клиентов раз два и обчелся, да и те норовят подешевле.
Ни слова не говоря, Юля подала Ларочке паспорт с тремя сотенными между страницами – на ремонт. «Ларочка» заохала, запричитала и даже предложила зайти в свой закуток – выпить чая с собственной выпечкой. Юля в свою очередь выложила на стол шоколадку, после чего заведующая окончательно расположилась к «писательнице» и поведала тайны Великой Поймы.
– Здесь не люди живут, а звери. Поедом едят, хотя все поголовно инвалиды. Кстати, – оценивающе взглянула на Юлю заведующая, – вам-то самим не нужна инвалидность? Вторая группа всего шестнадцать тысяч.
– Зачем мне инвалидность? – удивилась Юля. – Я на здоровье пока не жалуюсь.
– А вы думаете, здесь есть хоть один нормальный инвалид? – загадочно усмехнулась Ларочка. – У меня у самой третья группа, а я даже ни разу в больнице не лежала.
– Но как же… Обследование, анализы… Да и прописка, наконец… – не понимала Юля логику заведующей.
– Да вы прямо как с луны свалились! – с материнским сочувствием смотрела на нее Ларочка. – Что же, у нас анализов нет? Вся больница на анализы работает. Подберем в лучшем виде. А пропишетесь у нас в гостинице.
– Мне нужно подумать, – пробормотала Юля, чувствуя, что еще немного, она и в самом деле станет инвалидом.
– …бесплатная путевка, проезд, лекарства… – продолжала завлекать ее заведующая – За год тысяч сорок набегает. Вам, как писателю, и, по всему видать, хорошему человеку, можем сделать скидочку.
– Извините, – прервала Юля бизнес-леди, – можно от номера ключик. Мне еще в БТИ надо успеть.
Ларочка достала из ящика стола два ключа (от номера и от «удобств»), положила перед Юлей. Голубые глаза ее отливали сталью:
– Вы с этим БТИ поосторожнее. Обчистят как липку.
8
Номер находился на втором этаже и поразил Юлю суровым, прямо-таки революционным аскетизмом: с потолка свисала голая лампочка Ильича, а из мебели была только доисторическая железная кровать под застиранным голубым покрывальцем да прикроватная тумбочка. Ни тебе привычного советского графина, ни занавесок.
Юля бросила рюкзак на кровать и подошла к окну: прямо на нее смотрел вождь революции и указующим перстом словно спрашивал Юлю: «Ты-то здесь зачем?»
«Я дом хочу купить, – сказала Юля вождю. – Но нужна куча справок. Вот прямо сейчас пойду в БТИ. Это очень серьезная организация и без нее мне не стать домовладелицей.
Она не особенно надеялась, что на исходе рабочего дня кого-то застанет в БТИ, поскольку и сама не привыкла, чтобы тютелька в тютельку. А уж в такой глубинке, где каждый второй, по словам Ларочки, – свояк, ждать пунктуальности и вовсе не приходилось.
К счастью, бюро было открыто и даже ни одного человека впереди. Надежду внушал и позолоченный крестик над новехонькой, под бук дверью с табличкой «Заведующая БТИ. Куролесова Антонина Леопольдовна». Постучав для порядка и не дожидаясь ответа, Юля по журналистской привычке смело вошла в кабинет.
За компьютером сидела упитанная, искусственная блондинка в ярко-зеленом атласном костюме. Пальцем левой руки она тыкала в клавиши, а правой кидала в рот семечки, выплевывая шелуху в стоявшую перед ней банку. Стена кабинета за спиной блондинки были сплошь увешана бумажными иконками, а на стеклах окон золотились точно такие же крохотные крестики, как и над дверью. Было ясно, что от врага рода человеческого в БТИ защищались не только снаружи, но и изнутри.
Юля поздоровалась, показала документы. Госпожа Куролесова отодвинула пакет с семечками и уткнулась в справку, выданную экс-предриком. Наконец, удовлетворенно кивнула:
– Это самая главная справка. Без нее вам бы дома не видать как своих ушей.
И блондинка положила перед Юлей прайс.
Памятуя, что скупой платит дважды, и, решив не рисковать, Юля оплатила заказ по сверхсрочной таксе, чем госпожа Куролесова осталась предовольна и даже согласилась лично посетить Березовку, чтобы на месте обследовать дом и составить свое заключение. Юле надлежало лишь обеспечить комфортный проезд.
9
На следующий день, едва рассвело, Юля стала искать машину (такси здесь были не в ходу. Они просто-напросто отсутствовали как невостребованный вид транспорта). На вокзальной площади увидела готовый к выезду, урчащий красный «москвичок». Выбора не было – и Юля рванула к машине. Водитель, невысокий, кривоногий крепыш, поблескивая золотыми коронками на передних зубах, так расхваливал свою антилопу-гну, с таким самодовольством демонстрировал ее салон, обитый турецким пурпурным бархатом и отделанный пластмассой «под золото», что Юля согласилась на запредельную даже по столичным меркам цену. Зато в девять пятнадцать вместе с госпожой Куролесовой они уже выехали в Березовку.
Антонина Леопольдовна сидела, естественно, впереди. Её женский дух был так ядрен, что, видимо, доставал водителя со страшной силой. Он включал магнитофон и, под мужественные и страстные песни Высоцкого, едва не лежа своим коротким мускулистым телом на пышном бюсте соседки, доставал из бардачка дезодорант, и, нежно глядя на роскошную блондинку, нажимал на распылитель. Наверное, хотел создать романтическую атмосферу первой встречи.
Дешевый парфюм водителя-мачо в сочетании с женским духом мадам Куролесовой, а также с золотом и пурпуром отделки салона напоминали Юле низкопробный бордель. Приоткрыв окно, она жадно втягивала в себя чистый воздух, но полностью отключиться от происходящего в салоне не могла и невольно слушала историю еще одной забубенной молодости, каких уже успела наслушаться в своей журналистской практике.
Оказывается, в то время, когда Юля еще ходила в школу, водитель солировал в местном вокально-инструментальном ансамбле, но финансовые нарушения руководителя ВИА, преследования властей за исполнение битловских песен привели его вместе с руководителем в места не столь отдаленные. Там он тоже пострадал за «правду» и получил ещё две отсидки…
«За правду»? – в Юле тотчас ожил газетный волк, почуявший настоящую охоту:
– Как же вы там выжили?
– Обыкновенно. Жизнь, она везде жизнь, что на воле, что в неволе. Там паханы и здесь паханы. Там шестерки и здесь шестерки.
– А вы кем были?
– Я-то? Мужиком, конечно.
– «Мужиком»?!
– Ну работягой, значит. Вкалывал с утра до вечера.
– И что вы делали?
– Все. Последние два года даже сварщиком работал. Зато вот эту мою принцессу… – и водитель любовно похлопал по рулю правой рукой с татуированными буквами на фалангах пальцев, – сам смастачил. Сварил из кучи металлолома.
Юля сложила буквы на пальцах водителя, получилось «Гриша».
– Значит, вас не трогали? – неизвестно зачем, а скорее из-за бесконтрольного, почти инстинктивного журналистско-женского любопытства продолжала она свои расспросы.
– А за что меня трогать? Я никуда не встревал, жил своей жизнью. Главное, и там, и здесь, – чтобы у тебя была своя жизнь. Если нет своей жизни, тогда хана.
– Неужели не находилось желающих сделать вас шестеркой?
– Почему? Находились. Один попервости полез, так я его гвоздем между ребер… Больше не приставали. Чтобы уважали, нужно уметь постоять за себя. А что вы так интересуетесь? – хохотнул Гриша. – Уж не собираетесь ли сами на нары?
– Спаси и сохрани, – чуть не перекрестилась Юля. – Просто про тюрьму всякое говорят, хотелось узнать из первых рук.
10
Госпожа Куролесова отчаянно зевала и всячески показывала, что Юлины расспросы ее сильно утомили. А Юлю удивила реакция дамочки, точнее ее отсутствие на факт судимости водителя и двадцать лет его отсидки. То ли мадам с головой была погружена в либидо, то ли в районе вообще не осталось законопослушных граждан и редкостью был скорее не сидевший, чем сидевший.
– Нельзя ли что-нибудь посовременнее? – капризно попросила Куролесова. – От Высоцкого уже голова болит.
Гриша с готовностью поставил новую кассету. «Очи черные» вернули прежнюю атмосферу взаимного притяжения анимы и анимуса. Опять началось воркование, многозначительные намеки, полупризнания…
– …такой объект я мечтал встретить всю свою жизнь…
Кажется, Гриша даже делал предложение:
– …жажду уюта и ласковой женской руки…
Куролесова жеманно захихикала, брылястые щеки ее пылали. Но в тот момент, когда татуированная Гришина рука страстно впилась в ляжку соседки, машину сильно мотнуло. И немудрено: на дороге начинался экстрим – сплошные черные дыры, и машина, ведомая одной левой, несмотря на все Гришино искусство, стала вести себя как дикий мустанг, вырвавшийся из прерий: взбрыкивать, нестись сумасшедшим галопом, трястись мелкой противной трусцой. После одного из самых сильных взбрыкиваний «москвичка» так заколбасило, что даже вынесло на встречную полосу. Юля была вынуждена объявить, что ее «укачало».
С трудом оторвавшись от «объекта», Гриша нехотя затормозил и, обежав машину на полусогнутых, угодливо открыл дверцу. Мадам Куролесова величественно выставила сначала одну тумбообразную ногу, потом другую и наконец выкатилась сама. Гриша – ниже мадам на полторы головы – пытался проводить её «налево», но Юля, быстро оклемавшись на свежем воздухе и понимая, какой неустойкой лично ей грозит этот бурно разворачивающийся на ее глазах роман, заставила Гришу повернуть направо.
– Хороша баба?! – то ли спросил, то ли предложил разделить его восхищение «объектом» быстро вернувшийся с «направо» Гриша.
Куролесова вызывала у Юли почти что отвращение, но она молчала: не хотела портить отношения с крутым водилой. А то вдруг возьмет да и повернет обратно: с них, великопойминских, станется. Уж Ларочка ей много чего про них понарассказывала. Потому как и сама из приезжих. Настрадалась.
Всю оставшуюся часть пути Юля отвлекалась тем, что вспоминала свои школьные каникулы у тетушки в деревне, которой теперь нет даже на карте: купание в речке с видными насквозь ракушками и стайками мальков; вечерние костры на берегу с непременными страшилками бывалых деревенских пацанов и битловскими песнями под гитару ее городских сверстников: «Yesterday, All my troubles seemed so far away…»
11
…Часа через полтора придорожный столб с указателем «Березовка» подсказал Юле, что они – у цели. При въезде бросилась в глаза пара дощатых сараев, наполовину скрывшихся в зарослях крапивы и чертополоха. Дальше – больше. Юля насчитала пять щелястых брошенных домов со страшными пустыми глазницами вместо окон. А при виде обгорелой тоненькой березки-подростка – лет пятнадцати не больше – неподалеку от остова русской печи, также изрядно обгоревшего, она чуть не заплакала.
– Не повезло кому-то, – притормозил Гриша.
Да, разыгравшуюся здесь трагедию можно было прочитать без труда по горке винных бутылок на пожарище.
Все это здорово подействовало Юле на нервы, и она уже толком не знала, зачем ей вообще домик в такой деревне. Но вот машина въехала на горушку, где стоял сельмаг, – и у Юли захватило дух от открывшейся красоты. То есть именно такой, какую описал ей Михалыч: внизу искрящаяся речушка, стайки русских берез, воспетых поэтами, – и врассыпную между ними досюльные, как на полотнах передвижников, крестьянские избушки.
Избушки Юле особенно пришлись по душе своей старинной живописностью и особой и тоже русской милотой: вот уже почти по грудь в землю ушли, а все держатся, все бежит дымок-вьюнок из трубы и, значит, жив, жив курилка!
От переполнявших ее чувств Юля поделилась услышанным от Михалыча:
– Здесь раньше церковь была… Алексея Божьего человека… В тридцатые сожгли.
– Стало быть, мы на кладбище находимся, – огляделся Гриша. – По костям предков топчемся.
Что ж, возможно здесь когда-то и было кладбище. Но теперь о нем ничего не напоминало: время стерло могильные холмики, порушило надгробные кресты, а на место старого храма поставило новый – сельмаг.
Юля предложила Грише и Куролесовой зайти в магазин. Но те дружно отказались: вероятно, их больше грела возможность побыть наедине хотя бы несколько минут.
12
На двери магазина была приклеена бумажка с надписью от руки: «Хлебный день по вторникам, четвергам и субботам». Юля торкнулась в дверь – в нос ударил аромат свежеиспеченного деревенского хлеба. У прилавка кучковались старушки в одинаковых миткалевых платочках. «Здравствуйте!» – как можно приветливее улыбнулась Юля. Старушки недружно откликнулись, настороженно осматривая чужестранку. Продавец, широкозадая, грудастая бой-баба в шароварах и красном платке, лихо повязанном на затылке, вообще не ответила, продолжая отоваривать старушек и что-то записывая в свой гроссбух.
Прохладный прием Юлю ничуть не смутил: здесь же не знали, что она – своя. Вот куплю хлеба, – решила Юля, – тогда и представлюсь: так, мол, и так, у меня здесь дом… Но когда подошла ее очередь и она попросила две буханки, продавец прореагировала самым странным образом:
– Две буханки… Две буханки… А что своим останется? Магазин в первую очередь обслуживает местных.
Да, видимо, продавец жила еще в том, застойном времени, когда продукты выдавали по талонам, а за шмотками выстраивалась огромная очередь. И Юля собралась, было, напомнить ей об этом и по-советски потребовать книгу жалоб, но, вовремя вспомнив про чужой монастырь, проглотила голодную слюну и вежливо сказала:
– Извините, я не знала.
И, о чудо! Тут же бой-баба своей мощной дланью взяла со стеллажа одну из румяных поджаристых буханок пшеничного и швырнула на прилавок: мол, нате, только не приставайте. Так что к машине Юля возвращалась с заслуженной добычей, на ходу впиваясь в горбушку, вкуснее которой, казалось ей, она ничего не едала.
…Они с Гришей рвали буханку на части (Куролесова от угощения отказалась) и, жуя, смотрели друг на друга счастливыми глазами. Словно причащались хлебом. С этого момента, почувствовала Юля, они с Гришей стали друг для друга как бы своими, и она уже без прежнего напряжения попросила Гришу подождать у сельмага, пока Юля проведет разведку боем, согласно плана, накарябанного рукой Михалыча.
13
Вместе с Юлей увязалась и Куролесова, вероятно, опасаясь, что не совладает с собой, оставшись надолго с Гришей тет-а-тет. Но не успели они спуститься с горушки, как на них с лаем набросились выскочившие из засады огромные, с теленка, местные псы. Они были настолько бесцеремонны, что, учуяв ядреный женский дух, стали приставать к Куролесовой совсем по-кобелиному. Но Гриша, всё это время провожавший мадам влюбленным взглядом, тотчас выскочил из машины с дрыном в руках. Псы, трусливо поджав хвосты, скрылись так же мгновенно, как и появились.
Впрочем неожиданности здесь подстерегали на каждом шагу. То мадам, оступившись на колдобине, едва не ухнула в прикрытый высокой травой ручей, пересекавший дорогу (к счастью, славный кавалер Гриша был начеку и удержал даму). То неизвестно откуда взявшийся бык самого звериного вида вдруг попер на чужаков с явным желанием посадить на рога. Но тореадор Гриша с помощью все того же дрына быстро охладил бычьи порывы.
В поисках дома Михалыча они едва не наткнулись на спящего прямо в дорожной пыли босоногого, обритого наголо парня. От него крепко несло сивухой. «Какой ужас!», – брезгливо поморщилась Куролесова.
– Да уж, никому не пожелаю, – неслышно подошла женщина, повязанная до самых глаз белым платочком и одетая в точно такой же синий рабочий халат, как и экс-предрик Ильич. – От боли криком кричит, а выпьет – вроде полегчает. В голову он ранетый, – и женщина показала на голову спящего.
Но Юля уже и сама заметила на темени и на правой ноге парня след от огнестрельного оружия (эти боевые отметины ей не раз доводилось видеть на бывших участниках «горячих точек», с которыми сводили ее репортерские пути-дороги).
– Чечня?
– Она самая, – невесело усмехнулась женщина. – Всю жизнь ему испортила. На работу не берут – инвалид. Невесты тоже нет. Да какие тут невесты – одни пенсионеры. А вы в гости к кому?
Юля ответила.
– А-а-а… Слышала, слышала, – взгляд женщины становился все более заинтересованным. – Значит, правда, Михалыч продает?
– Правда.
– Время – деньги, – Куролесова выразительно постучала по корпусу золотых часиков на пухлой руке. – Мне к концу рабочего дня вернуться нужно.
– Где же береза? – растерянно озиралась Юля. – Тут должна быть самая высокая в мире береза. Из Москвы еще приезжали ее фотографировать.
Женщина засмеялась:
– Да вот же она, прямо на вас смотрит!
Юля рассмеялась: как же это она не увидела! Впрочем, подобную рассеянность она замечала за собой и раньше. И теперь невольно вспомнила, как Игорек с видом мудреца объяснял это прессингом нового времени, сверхскоростью его потока, в котором люди, попавшие в него, – и он со значением смотрел на Юлю – а репортеры первые среди них – скользят по поверхности, перестают отличать главное от неглавного…
Но для Юли было очевидно, что, погружая ее в «поток», а себя мысля вне потока, Игорек тем самым пытался оправдать свою неуспешность. «Сам-то он как раз и попал в поток… Поток неудачников…» А вот она, Юля, приобретя дом, будет отныне жить там, где время не бежит, а течет.
– Давайте ключи, – сердито прервала ее размышления Куролесова. – Пока вы тут тары-бары, я начну обследование.
И Грише, но уже с лаской и томнотой в голосе и во взгляде:
– Вы мне поможете?
– Всенепременно! – страстно выдохнул Гриша.
Получив ключи, сладкая парочка торопливо зашагала к дому. А женщина в халате, присев на корточки, стала будить парня. Тот бормотал что-то нечленораздельное, отмахивался от настойчивых рук матери, наконец, приподнялся, и женщина, обхватив бывшего бойца, буквально потащила на себе, как, наверное, тащили раненых еще в ту войну советские девушки-патриотки.
Зафиксировав этот образ в памяти, Юля заторопилась к дому, который теперь – увы или ах! – был почти что ее собственным.
14
Разочарование было полнейшим. Вместо крепкого дома-пятистенка перед Юлей стояла избушка на курьих ножках под позеленевшей от старости крышей. Но, как ни странно, выглядела избушка вполне обжитой. Трава была выкошена, на натянутых веревках висело белье, а на месте палисадника с разросшимися кустами смородины и крыжовника, также зафиксированными на фото Михалыча, стояли две большие стеклянные теплицы. Но внимание Юли уже целиком захватило чудо-дерево – самая высокая в мире русская береза.
Это было настоящее древо рода – стройное, с могучим станом, идеальной кроной и мощной корневой системой, которая и держала с фасада избушку, не давая ей окончательно развалиться. Задрав голову, Юля смотрела на верхушку березы, терявшуюся где-то там, в облаках и думала: как много, наверное, эта береза знает всяких историй и как много узнает здесь она, Юля. Да, в это стоило вкладывать баксы! Древо рода, пусть и чужое, под ногами не валяется. А то, что рядом с такой красотой полусгнившая избушка – и бывший спецназовец в придорожной пыли… Так это тоже – жизнь. Дорога жизни… Но тут же Юля и оборвала себя: вруша! Привыкла обольщать в газетках. Разве не видно, что здесь не живут, а доживают. Пенсионеры и инвалиды-спецназовцы… И что же? Бежать? Но куда? Где она, Атлантида, Гиперборея наша?
Так, печалясь, Юля шла по своей (своей!) земле, машинально отводя рукой развешанные кем-то простыни. Интересно – кем? Ответ не заставил себя ждать.
– Вы что здесь делаете? Это мое белье!
Перед Юлей возникла кипящая от негодования дама в таком же синем, как на архивисте Ильиче и матери бывшего спецназовца, халате, но с букольками и тщательно наведенными ниточками-бровками.
– Нет, это я хочу узнать, что у моего дома делает чужое белье и чужие парники? – тотчас парировала Юля.
Из своего пусть и небольшого жизненного опыта она знала: стоит напустить на себя эту интеллигентщину, начать культурно мямлить, как тут же найдутся желающие оттеснить тебя с занятой позиции. Причем в самой агрессивной форме.
Дама сбавила тон – и с гордостью мелкопоместной помещицы:
– Мы из местных. У меня в свидетельстве записано: Березовка.
В переводе это означало, что Юля здесь никто и звать ее никак. С чем Юля была категорически не согласна и тотчас прочитала даме небольшую лекцию о священной неприкосновенности частной собственности.
Но, похоже, дама была из тех, для кого: мое – это мое, но и чужое тоже – мое. По крайней мере, она и не собиралась снимать свои простыни.
А белье назойливо лезло в глаза, и Юля уже на правах домовладелицы стала отвязывать веревку от древа рода. Дама бросилась наперерез:
– Документы! Покажите документы!
– Это вы мне покажите документы…
– Меня здесь все знают!
– А меня еще узнают.
– Вить! – завопила дама.
От соседнего дома понесся, тряся телесами, здоровенный, килограммов под сто малый в адидасе и детской панамке:
– Ты кто такая? Кто такая? – теснил он Юлю мощным торсом к речке. – У меня мамка отсюда… Я здесь все свое детство…
Неизвестно, чем бы закончилась схватка, если бы из дома не выбежал Гриша со своим неизменным дрыном:
– Бл*… – и прямиком к малому.
– Что вы, что вы… Давайте по-доброму, по соседски… – взволновалась дама. – Белье мешает? Так мы сейчас его… Сейчас… Витюша, снимай веревку… А парнички… Позвольте до осени… Непременно уберем…
– Кто тронет сеструху… – и Гриша ослепил непрошеных гостей страшной золотой улыбкой.
Тех словно ветром сдуло вместе с бельем и веревкой. Но ветер донес до Юли дамочкину обиду: « …Если бы не я, у них бы все давно разворовали…».
Юля мысленно поблагодарила даму за проявленную бдительность, но это ничуть не повлияло на ее решение – держать границу на замке.
– Ничего, что я вас сеструхой? – подмигнул ей Гриша. – Теперь вас здесь все будут бояться. У нас, в Великой Пойме только силу и признают.
Довольные одержанной победой, они вернулись в дом. Куролесова всем своим видом выражала недовольство.
– Время – деньги, – буркнула она, посмотрев на часы
«А то!» – усмехнулась Юля, вспомнив, что именно по этой причине дала «на лапу» архивариусу, Ларочке, переплатила вдвое за техпаспорт. И, значит, у нее были все основания – не спешить и как следует осмотреть будущее жилище.
15
В избушке, вопреки ее ожиданию, не была потревожена ни одна вещь. Правда, красный угол был пуст, от него осталась лишь небольшая полочка под киот. Ну да это было понятно: при советах все же люди жили, боялись держать иконы.
Юля представила, как в скором времени разведет она в избе огонь, как побежит огнистая змейка по дереву – и запоет заждавшаяся тепла печь, забушует пламя…
Но предаваться мечтам было некогда. Куролесова показывала на печной угол, чулан, нишу в комнате…:
– Это что? А это?..
Взгляд Юли упал на кровать. Покрывало было сдвинуто, на одеяле отпечатались пыльные следы… «Та-а-а-к… Значит, они прямо в обуви…»
Гриша явно скучал и, видимо, не находя для себя более ничего интересного, вдруг вспомнил об оставленной у сельмага машине:
– Ну я пойду. А то смотрю – народ здесь ушлый. Как бы чего… – и пошел, даже не взглянув на объект недавнего вожделения, насвистывая «Yesterday» и покручивая на указательном пальце с буквой «р» ключи от машины.
Куролесова нервничала и придиралась каждую минуту. Даже к собачьей будке придралась, пощелкав своим измерительным аппаратиком: мол, в домовой книге её нет, а фактически она есть. Помилуйте, возмутилась Юля, где это видано – собачью будку прописывать. Но Куролесова стояла на своём: какая же это будка, если она полметра высотой… В таких раньше семьями жили. И зырк на Юлю своими хамскими глазами: ну же, ну… Но Юля ни в какую. То есть, ни копейки сверху. И так заплачено по сверхсрочной таксе.
– Что ж, – пригрозила Куролесова, – не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Я вам такую самоволочку устрою, что вы ни купить, ни продать свою фазенду не сможете.
Юля решила, что она берет ее на понт. Ведь в той бумажке, что в первый же день в Великой Пойме свалилась ей на голову, яснее ясного было сказано: «самовольной постройкой является капитальное строение…» Капитальное! Но никак не сколоченная из всякого старья будка.
– Валяйте, – процедила Юля сквозь зубы, – свою самосволочку.
И в машине ей ни слова. Только с Гришей. Высадили её у БТИ, так Гриша даже дверцу не открыл мадам, видно, расчухал, кто такая. А Юле – свой номер телефона: мол, звоните, когда потребуюсь.
16
…Юля надеялась управиться за неделю, но шла уже третья, а дело не двигалось с мертвой точки. Самое интересное, что теперь, после обследования Куролесовой дома, она не имела права снести будку, в которой, судя по всему, уже давно не жила ни одна собака, даже приблудная.
На БТИ, «Гришу», гостиницу и обеды в великопойминской ресторации она истратила все взятые с собою баксы (разумеется, в русском переводе) и попросила Игорька срочно выслать «подъемные». «Мерзкая баба влепила-таки самоволку в техпаспорт, – жаловалась она по телефону мужу не без тайной цели – вызвать его в Великую Пойму для моральной поддержки. – Нужно снова нанимать машину, везти районного архитектора, оформлять будку как самострой. Потом вынесут решение – либо снести будку, либо внести в техпаспорт на законном основании… Да пусть бы и так, но у архитектора нет времени и когда оно будет, никто не знает, даже сам архитектор…».
«А я что говорил!», – с нескрываемым чувством превосходства пенял ей Игорек и, снова лелея мечту о кинокамере, предлагал жене немедля все бросить и вернуться из плена собственности в лоно семьи. Но, разумеется, Юля гордо отказалась. Ну не могла же она даже чисто по-женски сдать заявленную в их супружеском союзе позицию преуспевающей бизнес-леди и отступить перед местной самосволочкой.
Все последующие дни она строчила письма по инстанциям: «Абсурд ведь, чистый абсурд! – взывала Юля к здравомыслию районных властей – собачью будку в паспорт!» Но власти упорно отказывались проявлять здравомыслие.
Кончилось всё как нельзя хуже – скандалом. Нет, не с властями – с подружкой Куролесовой – нотариусихой. О том, что они подружки, вместе пьют и устраивают на своих квартирах с любовниками танцы («надо понимать – какие!»), Юле рассказала однажды за вечерним чаем Ларочка, по всей видимости, когда-то обиженная подружками.
Так вот, эта нотариусиха заставляла Юлю, свободную гражданку свободной страны! и владелицу (или почти владелицу) частной собственности! – часами, днями! выстаивать как на церковной службе в своем предбаннике (видимо, в угоду подружке, желая проучить Юлю), а сицилийцев в черных сицилианских костюмах, с блестящими цепями на бычьих шеях внаглую принимала без очереди.
То, что эта сицилия приехала скупать её родные нивы и поймы – по четвертаку за сотку – нотариусихе было по барабану. Да и при чем здесь patria o muerte, при чем здесь бумажные иконки на стенах и крестики на окнах и над дверями, если четвертак сверху. Юля для интереса подсчитала, сколько сицилианцев принимает предприимчивая нотариусих за рабочий день, помножила это число на четвертак, получилась пятьсот баксов чистыми.
– Пятьсот баксов! – доложила Юля стоящему в очереди народу результат работы собственной счетной палаты.
Народ сделал вид, что не расслышал, хотя иные уже не одну апрельскую ночь провели около особняка нотариусихи, лежа на грязном картоне, чтобы первыми попасть в заветный кабинет и тоже стать собственниками. Да и сама Юля тоже, наверное, оглохла бы, узнав, что эта нотариусиха – единственная (!) на всю округу, кому разрешено одарять собственностью или, напротив, лишать последнего. «Приезжала тут одна, городская, – рассказывала Ларочка, – пробовала открыть свою контору, даже домик сняла у переезда, только домик через неделю сгорел – со всеми документами. Так-то у нас. Будешь выступать, вообще ничего не получишь…»
Всё же на исходе какого-то дня и какого-то часа Юля забыла про советы мудрой Ларочки и вспылила: «Сколько можно?.. Буду жаловаться… Я – журналист…» На что один из постоянных сидельцев на картоне и стояльцев в предбаннике (сидячих мест для клиентуры у нотариусихи было всего два) беззубый дедок в драной фуфайке заметил: «Куда жалиться, милая, все мы тут одним мёдом мазаны…»
17
Да… Терпение многострадального великопойминского народа было заразительно. Чтобы она, Юля, выпускница столичного вуза… репортер… досидела, точнее, достояла до конца… Скажи кому из знакомых, не поверят. Но Юля, вдохновленная подвигом терпения таких вот деревенских дедков, достояла. Дождалась того момента, когда дородная, килограммов в сто двадцать бабуля цыганистого вида, еле передвигая ноги, вошла в кабинет. Юля была следующая и уже заранее предвкушала заслуженный отдых, а точнее – временную передышку в борьбе за свое право на Собственность.
Прошло десять… двадцать… тридцать… минут. Время неумолимо приближалось к завершению рабочего дня нотариусихи, и уже пару раз заглядывал в кабинет её любовник, щеголь-грузин, которому, как полагала Юля, не терпелось потанцевать. Ей тоже не терпелось… облегчиться: в приемной нотариусихи туалет для клиентов был не предусмотрен, клиенты устраивались кто как может. Юля бы тоже устроилась… в ближайших кустиках, но была учена недавним горьким опытом: стоит отлучиться, как кто-то непременно займет твое место. Доказать «эффект присутствия» неместному было практически невозможно: тут же находились свидетели из сзадистоящих свояков, и уж они-то доказывали всё, что им заблагорассудится. Если же кто-то продолжал настаивать на своем праве – его вообще выбрасывали на улицу и последующим наказывали – этого не пускать. Ну не любили великопойминцы, вовремя поняла Юля, правозащитников и правдолюбов.
Однако она никак не могла взять в толк, что делает у нотариусихи целый час (!) древняя бабуля (вот если бы там был любовник-грузин, она бы поняла, даже если бы он там провел два часа). Но дел-то у бабули было с гулькин нос – исправить в документе одну буковку, которую сама же нотариусиха ей и впаяла.
Юля напрягла слух, прислушалась. Да-с… Вопрос обсуждался наисущественнейший. И первую скрипку в его обсуждении играла бабуля:
– Что ж ты, красавица, замужем?
– Разведена…
– А детки?
– Двое. Один от первого, другой от второго.
– Так ты два раза сходила?
– Два.
– А в третий пойдешь?
– Ну если хороший человек…
– Есть у меня один на примете…
И Юля взмолилась: если Бог на самом деле существует, если это не бабкины сказки, то пусть он немедленно прекратит свою деятельность по производству человеков. Пусть Дарвину отдаст. У Дарвина это лучше получается.
Но все-таки ещё минут десять, и совсем не по Дарвину, а терпеливо по-деревенски, слушала она про зарплату, машину и другие достоинства претендента на руку и сердце одинокой нотариусихи. Однако в какой-то момент Юля не выдержала и без стука открыла дверь:
– Извините… До конца рабочего дня всего полчаса…
– Вы что не видите, я с человеком разговариваю, – рявкнула нотариусиха. – Закройте дверь!
Но на Юлю словно нашел ступор, и она продолжала стоять как вкопанная: еще никто и никогда не кричал на нее. Тогда разъяренная нотариусиха вышла из-за стола и попыталась взять Юлю (!), мужнюю жену (!), репортера (!), гражданина (!) – за шкирку, чтобы как девчонку вывести из кабинета.
И тут юлино достоинство взыграло:
– Что?! – вскричала она и двинула что есть силы нотариусиху.
Та отлетела на бабусю. И бабуся, охнув, выпустила из-под себя струю.
Струя была мощной и горячей и быстро заливала кабинет. Нотариусиха-невеста и бабуля-сваха, замерев, не сводили со струи глаз.
…Юля не помнила, как добралась до гостиницы. Как вырубилась в номере. Проснулась от того, что кто-то под окном юношеским срывающимся фальцетом на плохом английском пел под гитару свою тоску про вчерашний день:
Yesterday,
All my troubles seemed so far away
Now it look as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday… *
Она открыла окно… и замерла от восторга. Еще вчера голые деревья были покрыты зелеными клейкими листочками, и оттого все вокруг посвежело и похорошело. И даже однорукий Ильич словно помолодел.
Юля высунулась в окно:
– Эй, пацан! – крикнула она лохматому подростку, тренькавшему на гитаре. – Чего загрустил? Все только начинается!
* «Кулек» – институт, училище культуры (жарг.).
* Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина – один из первенцев сталинской «перестройки». Строительство канала велось с 1949 по 1952 гг.
** БТИ – Бюро технической инвентаризации.
* «Стольник» – сто рублей (жарг.)
** «Предрик» – председатель райисполкома. Советская аббревиатура.
* Лишь вчера/ Мне казалось, жизнь ко мне добра/ А сейчас свалилась бед гора…/ О, я так верю во вчера! (Перевод Павла Коняхина)