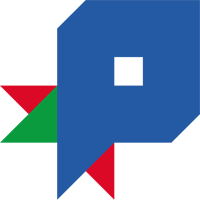Моему дорогому критику Айли Саукконен
По одной из боковых аллей кладбища, где не было уродливых бетонных тумб братских захоронений и унылых, с прозеленью, бронзовых орлов, загаженных мелкой пернатой братией, шел крепкий немолодой человек — Петр Миронович Кукса, директор кладбища. Даты, высеченные на аккуратных гранитных плитах, свидетельствовали, что Петр Миронович пережил всех лежащих под надгробиями: ему скоро шестьдесят, а самый «старый» покойник не дотянул и до пятидесяти. Директор не допускал захоронений покойников старше себя на этой аллее — она была любимым местом его прогулок.
Знакомые лица на граните как бы здоровались с ним, эпитафии, которые он знал на память, отвлекали от текущих дел и успокаивали. Последняя — «Все мы гости на этой земле» — все чаще и чаще вспоминалась Петру Мироновичу, когда он обходил старую часть кладбища. Здесь, как рассыпанные костяшки домино, теснились преимущественно безымянные могилы. Здесь можно было встретить православный двускатный крест или увидеть пышную эпитафию: «Он там, спокойствием небесным наслаждаясь, на наши суеты взирает, улыбаясь» — на могильном камне «благодеяниями мнози украшенного, в Бозе почившего купца второй гильдии Федула Лыкова».
Новая часть кладбища никаких мыслей у директора не вызывала. При ее планировке он схитрил: отступил не на пятьдесят метров, положенных по СНиПу (1), а много дальше от старой части, получив таким образом возможность держать резерв земли в центре кладбища для именитых покойников. Кто-кто, а уж он-то знал, что значит и что стоит получить хорошее место на центральном городском кладбище! Еще со времен Петра повелось: «Мертвых телес знатных персон в центре погребать должно, для чего смотрителю запас места иметь для оных…»
Петр Миронович остановился у последней могилы. Аллея прерывалась перед чистой сухой поляной, обрамленной березами, а дальше, за кустами сирени, экскаватор рыл ямы «про запас». При необходимости копачи потом придавали им вид свежевырытых могил. Опытный и по-мужицки расчетливый директор имел несколько таких «заготовок», но это полюбившееся место берег, не признаваясь даже себе для кого… И вот сейчас, присев на специально для него сделанную скамейку, Петр Миронович вспоминал свое «восхождение» на эту более чем номенклатурную должность.
Сельская десятилетка, армия, потом — место колхозного стипендиата по разнарядке в вузе: комиссия обкома направила тракториста не в сельскохозяйственный институт, а в медицинский: врачей на селе не хватало.
Мордастый увалень Петька Кукса стал учиться на врача, но среди сокурсников был гадким утенком без перспективы стать лебедем: науки, особенно латынь, еле тянул, служил объектом шуток в кругу развитых, остроумных салаг. Стеснялся своих ботинок на микропорке, широких суконных брюк, своего запаха и даже своей фамилии. Больше всех тонко ехидничал Фима Ейнгорн.
Как-то Петька, сидя в институтской библиотеке, выбирал из латинских текстов поговорки, пять фраз надо было знать на память к семинарскому занятию. Выбирал те, что покороче. Подошедший Фима предложил, как он заверил, поговорку о красоте латинского языка: «Lingua latina non penis сanina» (2). Не ожидавший подвоха и не знающий перевода Петька добросовестно запомнил ее и выдал пожилой преподавательнице под хохот всей группы. После этого он стал Фиму глухо ненавидеть и долго не мог поверить, что слово «курва» — латинское и переводится как «кривая». К тому же Фима, сын профессора-гинеколога, упакованный в импортные джинсы и кожу, небрежно кивал в ответ на поклоны официанток, а постоянно голодный Петька с крестьянской расчетливостью тратил стипендию. «Тебя бы в мой взвод, — злорадно думал он. — Ты бы ночью очко драил песочком, а днем — танковые траки зубной щеткой, как я на первом году».
К третьему курсу он немного обтесался, однако ни любви, ни интереса к будущей профессии не возникало. Петька не участвовал в спорах, в компании его не приглашали. Сквозь дырку в заборе он видел другой мир, но преодолеть забор так и не смог.
Подвернулась работа — позвал его в напарники санитар морга, сокурсник, энергичный плут Лева Савицкий. Постоянная санитарка — со свекольным цветом лица, всегда в подпитии глухонемая коренастая особа без возраста — делала первичный туалет трупа после вскрытия и мастерски накладывала шов цыганской иглой от яремной вырезки до лобка. В обязанности Петьки входило приготовить рабочее место патологоанатома, привезти труп из холодильника, разложить инструменты, вымыть и продезинфицировать мраморные столы.
Аристократическую работу выполнял Лева — делал косметическую обработку лица покойника, помогал обрядить его и уложить в гроб. При этом он выражал соболезнование родственникам и давал консультации типа «крышку ставят в ногах» или «сын мать не несет». Если покойник был молод, Лева краснел и плакал, незаметно нюхнув завернутую в вату ампулу с амилнитритом. Но это была лишь прелюдия — когда гроб собирались выносить, появлялся Петька в докторском двубортном халате, в черной рубашке с белым галстуком (ну просто ангел смерти!) и со скорбным лицом тихо сообщал подсказанную Левой некруглую сумму — не кому попало, а указанному Левой человеку. Получив деньги, извинялся и просил обождать квитанцию и сдачу, но посетители быстро грузили гроб и уезжали — психологический расчет Левы был верным.
Петька не сразу освоил свою роль.
— А почему я? — спрашивал он наставника.
— А кого я поставлю, вы ж понимаете, — немую? Так она на Матерь Скорбящую не тянет. Я готовлю клиента, плачу, как Оскар-плакса у Ремарка, а потом, я извиняюсь, говорю о деньгах? Да и внешность у меня… Помнишь анекдот: «Приходит мужик на работу устраиваться. Кадровик его спрашивает: «А вы кто?». Тот: «Я дизайнер». — «Сам вижу, что не Иванов!“ — А у тебя вид простецкий — не хочешь, а дашь. Все продумано. Немая получает свою бутылку, ты — сорок процентов. Кто спросит за что, отвечай: за туалет трупа.
Конвейер заработал, и Петька повеселел. Смазливые опытные подружки, которых приводил тот же Лева, быстро избавили Петьку от комплексов. Так вошли в Петькину жизнь деньги…
Конвейер сломался, когда потерявший бдительность Лева указал Петьке очередного лоха, который оказался не только родственником покойного, но и братом декана факультета. Тот отдал десятку, а Петьку через два дня тихо выгнали из института, не дав делу официальный ход. Лева, ничего, разумеется, «не знавший» о поборах, отделался неприятной беседой в деканате и потерей работы.
Озлобленный и похрустевший шальными деньгами Петька стал искать работу около смерти. Как говорил незабвенный Лева, дело мертвое — копейка живая. Вблизи кладбища торчало бетонное здание с тяжеловесными буквами по фасаду: «Цех ритуальных услуг» — туда и направился соискатель. Бригадир камнерезов, выяснив, что Петька не портретист и не отличает антикву от славянской вязи (3), не стал продолжать беседу.
В другой комнате тесно развешанные жестяные венки красила из пульверизатора женщина с замотанным тряпкой лицом. Она махнула рукой в сторону худощавого парня с кистью, писавшего золотом по черному муару. Петьке повезло: художник ушел во внеплановый запой, а на длинном щите зеброй лежали штук двадцать черных лент; лист с надписями был пришпилен кнопкой. «Сделай к утру, а там посмотрим», — бросил он Петьке через плечо.
Петька, сверяясь с текстом, отыскивал в куче трафаретов нужные: «мужу», «жене», «от», «любимому»… Но дело оказалось простым лишь на первый взгляд: краска затекала под трафареты, трафареты пачкались, ткань смещалась. Петька был изгнан и отсюда.
Денег не было, хотелось есть. Слоняясь по кладбищу, он наткнулся на копачей: два мужика курили около свежевырытой могилы. Петька поздоровался.
— Вот Боре вырыли… копал он с нами… — сказал один, прерывая неприятную паузу.
— Сколь другим ни копай, себе не выкопаешь… Как говорится, никуда не годится: работать банщиком и не помыться.
— Ладно, философ. П…ть к ночи — не лопатой ворочать. Пошли.
Увязавшийся за копачами Петька предложил помочь. Мужики, как видно, были с похмелья и охотно дали добровольцу лопату. Петька осмотрел «струмент», не спеша заправил острие грубым напильником. Сначала очертил периметр; налегая на черенок корпусом, аккуратно срезал дерн, затем пошел углубляться, бросая землю далеко от края. Копал он по-деревенски несуетливо, сноровисто.
— Харэ, не шахту роешь, — сказал мужик, заглянув в яму.
Петька, не отвечая, зачистил края, выровнял дно и, положив лопату поперек могилы, легко выскочил наверх.
Не находя другой работы, он почти каждый день приходил на кладбище. Копачи давали ему два-три рубля из своих денег, курили, опохмелившись, а он за час-полтора выкапывал размеченную могилу «в рост».
Запах земли возвращал Петьку в деревню, в детство. Иногда, стоя по грудь в яме, думал: может, вернуться домой?
…Отец отвез его в город на мотоцикле «Урал», подаренном колхозом знатному комбайнеру. Прощаясь, сидели в комнате общежития.
— Ладно, попробуй, что выйдет. Только не твое это место, — выкатывал отец медленные слова. — У земли бы оно вернее… К технике у тебя склад. В общем, сын, не пойдет наука — возвертайся, через год-два на комбайн сядешь.
Помявшись в дверях, спросил:
— Таньке-то что передать? Сразу ведь спросит. Это не дело — из армии тебя ждала, а ты ни мычишь ни телишься.
Выросшая рядом на одной с ним улице девчонка, голосистая певунья с веснушками и облупленным носом, «сохла», как говорили бабы, по Петьке. Петька же не выделял Таню из сверстниц, среди которых были девчонки и покрасивее. Только на проводах в армию он как будто впервые увидел не по-деревенски нежную кожу лица, гордо посаженную рыжеволосую голову Тани, стоящей в стороне от дрыгающейся в танце молодежи. Вспыхнувшую искру загасила частушка подвыпивших молодок, которые, смеясь, потащили призывника с Таней в круг:
Эх, теща моя, мне полстопочки налей,
Да неужели я не стою рыжей дочери твоей?!
Письма Тани были скромны и целомудренны, как будто из другого мира; они не вязались с россказнями сослуживцев о похождениях с «телками» на гражданке. Сам он до армии не познал женщину. А потом — перспектива института, возможно, «городская» любовь и подленькая мысль, что Танька, работающая няней в детских яслях, от него-то уж никуда не уйдет.
Таня вышла замуж и после рождения ребенка стала красавицей. Упустил он свою жар-птицу. Это была одна из причин, по которым Петька не хотел ехать в деревню. Прохода не будет от разговоров, да еще кличку прилепят — Петька-доктор. И он, углубляясь в прохладную землю, отгонял бередившие душу мысли о деревне, тем более что на должность копача уже оформился в отделе кадров.
На кладбище он освоился, набирался опыта. Если места было мало, яма расширялась книзу, гроб опускали косо. Вручную копались «престижные» могилы на центральных участках, куда не подашь экскаватор. Присутствовал Петька и при опускании гроба. Лучше него никто не мог установить крест, ограду или сварную тумбочку со звездой и оформить могилу. Лева был прав: добродушное лицо копача располагало людей, и всегда кто-то из родственников захороненного просил приглядеть за могилой, сунув деньги в нагрудный карман Петькиного комбинезона.
Вскоре он, замеченный директором, выбился в бригадиры, через год поступил заочно в коммунальный техникум, стал сам делать разметку кладбища, иногда садился за рычаги бульдозера. Постепенно всегда трезвый и аккуратно одетый Петр Миронович стал правой рукой директора и понял, почему и кому выгодна постоянная нехватка камня, обрезной доски, специальной бижутерии.
Деревня, Таня и сам прежний Петька отдалились в тот жаркий июльский день, когда он, глядя в землю, сказал вдове:
— К завтрему не успеем… копать некому — двое на больничном… Рабочий день нормирован, я ж людей не заставлю, сами понимаете… Не могли бы вы на день перенести похороны?
Получив деньги, быстро отошел; в висках стучала кровь… Потом уже с легкостью импровизировал:
— Вы знаете, на вашем месте оказалось старое захоронение…
И далее по схеме.
Ставший втихаря попивать директор сделал Куксу своим заместителем, отошел от дел, но цех ритуальных услуг неизменно лидировал по всем показателям соцсоревнования служб горкоммунхоза. Заместитель разогнал старух, продающих взятые с могил цветы, болтающихся цыган и побирушек. Оставил на «рабочем месте» только дядю Пашу — безногого инвалида на тележке по прозвищу Паша-окурок. И то лишь потому, что тот не мог ездить на своих подшипниках по кладбищенским дорожкам, сидел у ворот, на асфальте и не пил водки.
Петр Миронович присутствовал на частых выпивках в директорском кабинете, пил символически и слушал, как собутыльники сетовали на судьбу и завидовали директору:
— План тебе сверху не спускают, клиенты на холодные батареи не жалуются, и выговор-то получить хочешь, да не получишь. Ты у нас один без выговоров — это даже неприлично, как полководец без шрамов, — острили собутыльники.
Время шло. Могилы оформлялись богаче, входили в моду горизонтальные плиты и каменные бордюры вместо запрещенных в целях экономии места оградок. Часто наблюдавший похороны Петр Миронович заметил, что больше всего люди лгут сами себе на кладбище. После того, как «горячо любимый старший товарищ» накрывался плитой без указания должности, «скорбящие сотрудники» активно обсуждали открывшиеся служебные перспективы, уже входя в поминальный зал. Тогда-то он и наметил «свою» аллею, выходящую на чистую сухую поляну.
Кладбищенское воронье — от причитающей старухи ханжи до элегантного гранильщика-портретиста — хищно кружилось вокруг клиентов, вырывало куски у директора, друг у друга. Эта система должна была сожрать саму себя. Так и случилось после афганской войны и с кладбищем, и со страной.
Переставший соображать директор хотел заполнить цинковыми гробами наших ребят пустующую сырую низину на отшибе. Афганец из солдатского комитета, хромая на скрипящем протезе, вышел на участок, тщательно оберегаемый для партийной и торговой элиты, закурил и сказал директору и обкомовским представителям:
— Прибывает семь гробов. Копать здесь. Каждому отдельно.
— Молодой человек, — встрепенулся директор, — а разрешение? Квитанции оплаты? Потом, места выделяет администрация кладбища в установленном…
— Ты чё, мужик, не поял? Тебе в переносицу е…ь? Места нам дали под Кандагаром.
Свита как будто воды в рот набрала.
Раньше, если приходил какой-нибудь комсомольский горлопан с апломбом из похоронной комиссии, поучал всех — попробуй не поддакнуть. Художники — народ независимый, но и они не решались послать его на х…
Теперь парень-афганец этих чинов обкомовских просто не замечал.
— Дерн срезать. Здесь — знаменная группа, линейка почетного караула. Посыпать песком, траву вокруг выкосить. Бумаги оформишь сам. Завтра в девять ноль-ноль чтоб был здесь. Пришлю ребят проверить.
— Святое дело! Понимаем! — вмешался Петр Миронович. — Я — заместитель директора, вопрос с местом решен. Пройдемте в кабинет. Я сам спланирую мемориальный ансамбль с цветочной клумбой вокруг памятника, заодно посмотрим плиты — черный лабрадор, сверим имена и даты…
…Любимая аллея удлинялась. «И каждый день короче делает к могиле путь», — прочел Петр Миронович эпитафию под высеченным на граните рисунком: погасшая свеча, закрытая книга. Надпись — Ейнгорн Ефим Маркович.
Эх, Фима, Фима, острослов, эрудит, главный эндокринолог области. Не осталось у Петьки к нему ненависти. Как-то он, подработав на станции, справил себе, как мать выражалась, «москвичку» — серую двубортную тужурку на вате с широким хлястиком. Фима под смех сокурсников расхваливал обновку и просил сфотографироваться. Сгорающий со стыда Петька не нашел что ответить, отошел.
И вот теперь на этой скамейке он тихо заплакал — то ли по тем годам, то ли по воспоминанию: запах травы, отец, обедающий в поле, он, Петька, в кабине комбайна. С высоты ее виднелась блестевшая под солнцем река. Домой, в деревню он приезжал редко — последний раз в годовщину смерти матери. На просторном деревенском погосте, куда он пришел с отцом, не было чужих могил. Здесь покоились соседи, кумовья, сваты, многочисленная родня. Помянули всех.
—Я здесь лягу… — сказал отец, открывая калитку в оградке, крашенной голубой краской.
— Рано-то не собирайся, — произнес Петька положенную фразу.
— Да кто знает, она ить не спрашивает… Дед говаривал: «Помирать — не лапоть ковырять. Лег под образа да закрыл глаза». Вон мать-то наша — чё бы не жить… Тебе вот рано… пока я не уйду. Такой уж на земле порядок. А на земле-то я, слава Богу, поработал. Да и дед твой. Ты вот как обсевок. Я же вижу, нерадостно тебе, Петр, ни сам, ни душа не на месте. Баба твоя так в родню и не вошла. Собой больно занятая. Как внуки выросли — не видел.
— Ладно, батя, не место тут, да и не ко времени, — прервал Петр неприятный разговор с отцом, возникавший при каждой встрече.
Вечером на многолюдное деревенское застолье пришли и Таня с мужем, дальним родственником бабки Куксихи. Чинно-молча выпили по полной, обнесли стол поминальной кутьей. После второй началось: «А помнишь?» Повторялись памятные курьезы сельской хроники с участием поминаемых; кое-кто, хватив лишку, припоминал старые обиды.
Застолье оживилось, вернулись выходившие покурить мужики, произнесли тост, лаконичный и емкий, как латинский афоризм: «Мертвое — мертвым, живое — живым». Закусили. Нависшую паузу нарушил Петькин отец, мечтавший видеть в Татьяне невестку:
— Давай, Танюша…
Все затихли. Татьяна, мать двоих детей, царственным жестом колыхнула медь тяжелых волос. Молочную кожу лица тронуло зарею, открылась темная зелень глаз. Петр Миронович смотрел на любишую его когда-то девчонку украдкой, как на солнце. И так бабки в деревне шушукают:
— Ишь, Петька-то так и пялится… Схватился, как с горы скатился.
— Во-во. Не видал, как упал; погляжу — ан лежу.
Уходя в армию, он оставил худенькую конопатую хохотушку с острыми коленками. После его отъезда в злополучный институт Таня переболела первой любовью и тоже уехала в Краснодар, где была принята в казачий хор. Но отец ее, крутой нравом да еще, как говорили на селе, «с дуринкой», забрал ее и вскоре выдал замуж за тихого, работящего и непьющего парня.
«Что стоишь, качаясь…» Тихий голос в одиночестве обходил углы, мягко касался божницы, вымытых стекол… Господи, можно ли так? Сейчас-то и вспомнились пришедшие и не пришедшие с войны, до времени и в свой час зарытые в землю, вдовы и сироты… Таня, прикрыв веки, вела: «Га-а-ла-вой склоняясь…» С болью в груди смотрел Петр Миронович на женщину, одарившую всех своим голосом. Действительно Богом мечена, как о ней говорили.
«А через дорогу…» — хрупкий тенор высветил продолжение, а потом в полевой букет собрались женские голоса: «…так же оди-и-ноко…» И легли на матицу басовой октавы: «…дуб стоит высокий…» Красным соком пополам со слезами: «…но нельзя рябине…» — потекли и сплелись голоса. Осыпался бел цвет с рябины, и уже шибануло первым заморозком налитые ягоды: «…знать, судьба та-а-кая…», а там и снежок присыпал разметавшиеся по подушке волосы: «…век одной качаться».
Сдержанные слезы, всхлипывания, смущенные мужские кхеканья.
Опять вышли покурить. Сидя с мужиками, Петр Миронович коротко отвечал на дежурные вопросы о городской жизни, ценах на водку и мясо.
(Продолжение читайте на следующей странице).