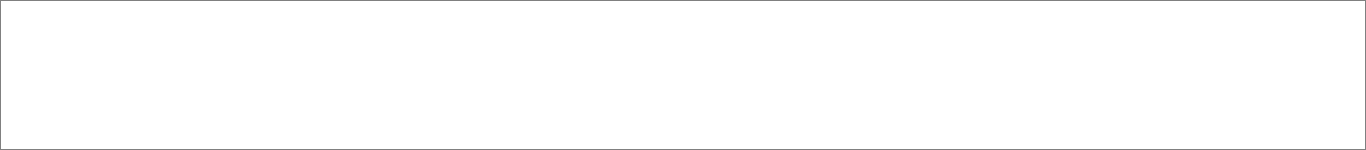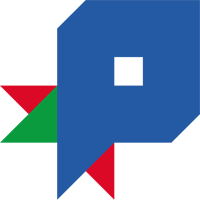Рассказ
Весной 2015 года будет отмечаться семидесятилетие Победы над германским фашизмом. Мой дядя Рувин ушел из жизни, успев отметить более круглую дату, полвека этого события. В мае получил поздравление от военкомата: открытку с красочным салютом с пожеланием здоровья и долгих лет. Всем они писались под копирку лишь с проставлением разных фамилий. Были они продуктом бюрократической канцелярщины. Здоровье дядя потерял еще в 1943 году на поле боя под Смоленском, а лет ему уже исполнилось восемьдесят шесть. Конечно, кто станет отказываться от большего. Победу дядя встретил в далеком Красноярске, где пребывал в Доме инвалидов войны. Но не все сразу.
Начнем сначала
Мой дядя никогда не выглядел крепышом. Был сухоньким, маленьким, будто недокормленным. Насчет питания скорее всего так и было. Гражданская война лишила его и мою маму родителей, и оба воспитывались в детдоме, а дядя потом в ФЗО – яснее – в ремесленном училище. До середины сороковых пол-Одессы недоедало, скорее, вечно хотело есть. А фезеушники – особенно. Какие разносолы – лишь бы не протянули ноги и могли трудиться. Но при общей тщедушности у моего дяди выделялись крепкие руки с плотными крупными пальцами, будто от другой фигуры. После ремесленного он стал трудиться слесарем на заводе «Январского восстания» и считался большим умельцем с высоким производственным разрядом. Мой дядя, как и большинство населения еврейского района Молдаванки, набивал мозоли физическим трудом. Жил он в рабочей общаге, питался в заводской столовке и представьте, с его золотыми руками так и не заработал на приличный костюм и рубашку с галстуком. Хотя ни копейки не пропивал. Приличного костюма на нем я ни разу не видел, когда он иногда появлялся у нас на Дерибасовской повидаться со своей сестричкой, моей мамой. Имел бы костюм, обязательно надевал. Как-никак, шел в дом декана истфака Одесского университета и учительницы истории неполной средней школы.
Когда началась война, папа сразу ушел на фронт. В августе эвакуировалась наша семья. А дядя оставался на заводе до последнего дня обороны Одессы. Там ремонтировали танки, пушки и все остальное. Дядя считался на передовой. С последним пароходом ему разрешили покинуть город. Он собрал вещмешок и отправился в порт. Пароход штурмовала толпа таких же бедолаг, как он.
Пробиться к сходням – несбыточная мечта, затопчут, разнесут на части. Маленький дядя стал соображать, как себя спасти. Жизнь научила его надеяться только на себя. Он знал, что помощь с неба не свалится. Тем более на него – атеиста, обходившего стороной синагогу. Хотя его старший брат был в Польше раввином. Но то Польша, а то – Советская Россия. Правда, дядя ошибся. При его комплекции он и думать не смел пробиться через толпу. Но кто-то его надоумил. Не конкретно кто-то, а некто со стороны. Назовем его Заступником. Он намекнул дяде на очевидное. Пароход под грузом осел почти вровень с причалом. На палубе горы вещей. Охраны у борта никакой. «Действуй», — шепнул этот кто-то. Сначала дядя закинул на палубу вещмешок. Потом попросил кого-то подать руку и забрался на палубу. Но что ему пароход, если не найти вещмешка? Там весь его скарб: пара рубашек, белье, пара банок консервов, две буханки хлеба. Куда ему без них. Перед ним гора барахла, в ней сотни чемоданов, мешков. Как тут не опустить руки. Снова непонятная подсказка: «Ничего не надо искать, рыться в барахле. Вещмешок на виду, на самом верху». Действительно, как могло быть иначе.
Вскоре пароход гукнул и пошел в Ялту. Дядя так переволновался, что забыл глянуть на Одессу, запомнить родной силуэт. Увидит ли её снова? Кто знает! Вопрос без ответа.
Было хорошо, пока не стало плохо
Пароход, расталкивая волну, тихо двигался на восток, где маячил спасительный Крым. Пошел он из Одессы в темноту, когда видимость с воздуха – ноль. Без огней, даже бортовых. За курение на палубе могли выкинуть за борт. Смолили в трюме или в рукава. Дело в том, что немцы и румыны захватили западный черноморский берег от Констанцы до устья Буга и охотились с воздуха за нашими кораблями, уходящими из Одессы в Крым или на Кавказ. Найти корабль ночью в осеннем море, что искать иголку в стоге сена. Локаторов тогда на этом участке не было. Отсутствовал и немецкий флот. Турки держали проливы на замке, не пропуская германские корабли. Отсутствие флота немцы заменяли минированием. Ставя их тысячами на маршрутах флота. Незадолго до отплытия дяди на такой мине подорвался флагман пассажирского черноморского флота теплоход «Ленин» с почти тремя тысячами пассажиров на борту.
Дядя это знал, и все остальные тоже. Поэтому никто не спал, чтоб в случае чего тут же прыгнуть за борт – практически без шанса уцелеть. Не знаю, кто на что надеялся, но дядя — на свой вещмешок. Поэтому за него держался, не выпуская ни на секунду из рук.
Слева отдаленно слышалась канонада. Там шли бои за Севастополь. Но, как говорила моя неверующая мамочка, бог миловал. На мину они не наткнулись и утром пришли в Ялту. Там тепло, тихо не по-военному. Только много армейских. Первым делом Рувин выяснил, где можно подхарчиться. На его хлебе далеко не уедешь. Пошел, куда все, получил талоны на питание. Надо было двигаться дальше. Ялта — городок приятный, кто в этом сомневается. Но Севастополь рядом. А там большая война. Отвечу, почему дядя не там, а в Ялте. Дядя в окопах не оборонял Одессы, хотя, по моим подсчетам в 1941 году ему шел тридцать третий год. Дело в том, что он был высококвалифицированный токарь и, как все рабочие завода, имел бронь. Даже тех, кто рвался на передовую, держали на заводе крепко-накрепко, не разрешая покинуть производство. Во-вторых, дядя имел «белый билет». Руки, ноги у него были в порядке, зрение тоже. Подвели уши. Он почти не слышал. Родился, каким надо. Но работа на заводе в шумном цехе с четырнадцати лет сделала свое дело. От армии его некому было отмазать. Получил то, что заслужил, с записью в медицинской карте: не годен к строевой и нестроевой в военное время.
Поэтому дяде тут же в Ялте выправили направление в Узбекистан в МТС ремонтировать не танки, а мирные тракторы. Ковать победу на фронте, но трудовом.
Выдали литер, дали подъемные и отправили поездом через Керченский пролив в теплые края.
Когда оформляли документы, не могли долго разобраться, откуда дядя родом. Их можно понять. Рувин родился в Яффе, в Палестине, куда занесло из Польши его родителей. Палестина была частью Турции. Поэтому мой дядя, как Остап Бендер, был турецкоподанным. Иди это объясняй ялтинским чиновникам. Рувин вместо непонятной Яффы назвал местом рождения Ялту, сняв все вопросы. Этот южный курортный городок так и остался родиной дяди.
Роковая ошибка
На узбекской земле дяде очень и очень понравилось. Почти Одесса. Так же тепло, даже жарко. Война только по радио и в газетах. Правда, все чаще приходят похоронки. Тогда весь кишлак плачет и варят большой плов. Такой, что хватает на всех. Мужчин в колхозе оставалось все меньше, и черноглазые вдовушки ему ласково улыбались, советуя больше кушать.
Таких тощих в их кишлаке никогда не видели. Что за мужчина без животика. А дядя – одна кожа да кости. Но опять же – руки золотые. Любую рухлядь ставил на колеса, отправлял на сборку хлопка, обработку риса. Ему даже поручили ученицу, чтоб хоть как-то передал свой опыт. Рук рабочих не хватало. Мужчин забирала война или посылали на работу в Сибирь.
А дядя трудился по-стахановски, попал на доску почета, и начальник МТС здоровался с ним за руку. Подарил даже тюбетейку, а к зиме теплый халат.
И дядя стал думать, как ему, наконец, повезло в жизни. Ему удалось выбраться из Одессы, пароход не наскочил на мину. Его, безо всякого знакомства, направили работать не в Сибирь, не в северные края. А он оказался почти в родной Одессе, где растут сахарные дыни, арбузы, персики, гранаты, а небо такое же высокое, и воздух такой же горячий, но сухой, а не влажный, как у моря, и никогда не бывает снега и опасного гололеда, когда ломают руки и ноги. Хотя шла война, но еды хватало, и он даже поправился, распустив ремешок брюк на одну дырочку. К тому же он тут всем нужен, точнее, его умелые руки. Он — за целую мастерскую по ремонту примусов, керосинок, швейных машинок, электроплиток, патефонов. Каждый расплачивался чем-то вкусненьким: лепешками, ребрами барашка, чего никогда не пробовал в рабочей столовке. Он починил дрожки самого председателя колхоза, и тот его иногда усаживал рядом с собой, оказывая почет и уважение.
Может быть, он тут бы и остался, пока война не кончится. Тем более, он слыхал, что много евреев из Одессы оказались в эвакуации в Ташкенте. Туда бы перебрался и работал на каком-нибудь заводе. С его руками всегда найдется место. Но, как говорила моя мамочка, человек предполагает, а бог располагает.
Допустил дядя одну промашку, о которой потом жалел. Хотя он в этом до конца не уверен. Может быть, не в этом дело. Он, несмотря на золотые руки, все равно оставался для местных чужаком, и его сдали в армию вместо своего. Да, он допустил промашку, сказав начальнику МТС, что его ученица невнимательна и часто запарывает детали. А та была ему племянница. Но разве за такую малость отправляют в действующую армию? Если вы думаете, что в сухом среднеазиатском климате у дяди наладилось со слухом, то ошибаетесь. Как плохо слышал, так и слышал. Его вызвали в райцентр на комиссию и, заметьте, признали годным воевать за родину. Он показывал свой “белый билет”, но там посовещались, очевидно, решили, что руки пока целы, непростые руки, а надежные, способные держать винтовку, ноги, чтоб идти в атаку, глаза, как надо целиться. И отправили дядю бить немцев.
Конечно, может быть, при наших многомиллионных жертвах кое-что в статьях инвалидности изменилось, и глухих признали годными хотя бы в хозяйственные фронтовые части. Чего не знаю, того не знаю. Дядю, правда, сначала отправили учиться на шофера, но потом перевели в маршевую роту. Так дядя оказался на передовой.
Ложись
С трудом на него нашли обмундирование. Новых комплектов явно не хватало. Хотя союзники активно помогали с одеждой, приходилось использовать БУ. Из таких обносков, стираных, штопаных, приодели дядю. Все, конечно, болталось. Его шейка торчала из гимнастерки колышком, а брюки он застегивал на груди.
Дяде показали, как целиться, на что нажать, чтоб выстрелило, и как действовать штыком. Главное, держать винтовку крепче и как можно громче кричать: «Ура», пугая себя и немцев.
Сколько дядя провоевал? Успел ли набраться боевого опыта? Нанести урон врагу, приблизить нашу Победу. Скажу: нисколько и ничего не набрался. Их взвод сходу подняли в атаку. Выбраться из окопа и бежать на немца. Сержант полез на бруствер, за ним все остальные. Вылезть из окопа – это мой дядя мог. Выбрался и посеменил за всеми, мой дорогой, почти глухой дядя. Ничего не слышит. Бежит. Вдруг все залегли, а он стоит. Сержант орет во весь дых: «Рубчик, ложись». Так он ласково звал Рувина. А дядя его не слышит. Он же глухой, тем более, идет бой. А все залегли, потому что падали мины. Густо и часто. На убой. А дядя стоит. Правда, недолго. Мина разорвалась где-то рядом. Земля застучала по каске, и два куска железа разорвали живот и грудь. Вот тогда он лег, точнее, упал, истекая кровью. А взвод поднялся и побежал дальше. Правда, недалеко. Почти все остались на пашне. А дяде повезло. Его покалечило раньше.
Хорошо, шел не сорок первый, а сорок третий год. Мы не драпали, а наступали. Дядю быстренько подобрали санитары и потащили в санбат.
С такими осколочными ранами обычно не выживали. Осколок не пуля, дырки ему мало, рвет внутренности масштабно. До сердца оставалась полоска с палец, а в животе – каша. Дядю спасло несколько обстоятельств. Подобрали быстро. Одного из первых. Поэтому в очереди не лежал. Сразу обработали раны и, опять же, повезло, подвернулся транспорт, и повезли в дивизию. Это рядом – с полчаса езды. Там тоже еще не скопилась очередь. Дядю тут же доставили в операционную. Снова везение. Не одно, а два. На дядино счастье взвод утром не подкормили. Не успели притащить термосы с горячим. А сухой брикет каши дядя грызть не стал. Кстати, с питанием горячей пищей в армии так до конца войны и не наладились, в отличие от немецкой. Питались всухомятку, потом американской тушенкой и, главное, от населения. Полевые кухни оставались редкостью. Не до них было. Брюшное ранение на сытый желудок – почти верная смерть. У дяди он оказался стерильным. Опытные солдаты перед боем в рот крошки не брали, знали, что к чему. Но и пустой желудок частенько не выручал. Смертность от ранений в живот была очень высокой. Но добрый дядин Заступник и тут выручил. Передал в руки особенного хирурга – военврача Абдурахманова. Он был не просто опытный специалист, но с особым профилем. Дело в том, что доктор Абдурахманов до войны был директором ташкентского института переливания крови, отлично знал её благотворные свойства. В частности, при ранениях в брюшную полость обязательно применял переливание. Если у других хирургов в такой ситуации выживало два-три раненых из десяти, то у Абдурахманова семь-восемь. Сколько он получал благодарственных писем от им спасенных! Мой дядя оказался среди них. Все что положено чудо-доктор заштопал, уложил как надо и начал дядю выхаживать, пока не станет транспортабельным. Все тайное быстро становится явным. Дядя знал, что его спаситель из Ташкента и, когда смог говорить, его тихо приветствовал: «Салям Алейкум». Они были почти земляками.
В дивизионном госпитале долго не держали. Армия наступала. Потери росли. Дядя, конечно, не вникал в такие тонкости, как его племянник. Знакомясь с историческими документами, нашел тяжелые цифры: за одного солдата вермахта наши полководцы отдавали четырех советских хлопцев. А главное, этим гордились, что столько пролили крови. Но это другая песня. Наш разговор о дяде. С половиной внутренностей он остался жить. Был он, как мы знаем, щупленький, а после всего стал, как пушинка. В годы войны была шутка, когда раненые просили медиков не открывать форточек, чтоб их сквозняком не вынесло. Откуда мой дядя мог набрать вес?! С фронта его перевезли в Москву и долго кормили только жидкой кашей и протертыми супчиками. Иначе его выворачивало наизнанку.
После Москвы еще с полгода он лежал в госпитале в Красноярске. Мы, его сестричка, моя мама, дедушка, бабушка были почти рядом – в Новосибирске. Но кто мог догадаться? Дядя не знал, где сестричка, другой родни у него не имелось. Так его и оставили в красноярском доме инвалидов. Дали первую группу и поставили точку в его жизни.
В Красноярске я никогда не был. Если он похож на Новосибирск, то жить можно. Но при условии, если ты не вырос в Одессе. Хотя дядя, как мы знаем, родился в Палестине, но в раннем детстве оказался на Молдаванке – этом еврейском гетто одесской бедноты. В Одессе оставался его родной завод «Январского восстания». Но там он был больше не нужен. На что годится инвалид первой группы? А значит, нет для него и заводского общежития, которое заменяло ему свою жилплощадь.
Одесса, казалось, для него закрыта. Живут же люди и в Сибири, Колыме, Чукотке – там, как пелось в песне – тоже русская земля. Имелся в Одессе, наверное, свой дом инвалидов для участников войны. Но мой дядя не был проходимцем, в хорошем смысле слова. Не умел получше устраивать свою судьбу. Он, бесспорно, был в курсе событий. Знал, когда Одессу освободили. Но почему-то не писал на наш довоенный адрес, выяснить, что с его сестричкой. Жива ли, пропала на дорогах войны. Что мы уехали, он, естественно, знал, хотя не успел проститься.
Что касается нас, то беда прошла мимо. Правда, узнав о гибели в Одессе всей многочисленной родни, получив инсульт, ушла из жизни дорогая Бетя, моя бабушка. Осталась в сибирской чужой ей земле. Зато живым вернулся с фронта папа. Не просто живым, а еще и невредимым, если не считать сталинградской контузии. Отвоевал три года. Прошел долгий путь от Волги до Праги. Имел не одну боевую награду, среди них знак гвардии и чешский офицерский крест за храбрость. О своих ратных подвигах не распространялся. Воевал, как все. Во вторых эшелонах не засиживался, как отмечал знаменитый прозаик в своей книге «Двести лет вместе», имея в виду лиц определенной национальности. А что было делать, если эти лица, в основном, жили в России по городам, так как при царях земледелием им заниматься не разрешалось, потому и образование имели повыше, а отсюда офицерские погоны. Не бог весть какие, но все же со звездочками, а до них с кубиками в петлицах. Мой папа начинал срочную службу рядовым хозвзводапехотного училища и только с началом войны получил один кубик – младшего политрука. Та же окопная жизнь бок о бок с солдатами. Война всех уравнивала: гибли сотни генералов, даже командующие фронтами: Ватутин и Черняховский. А прозаику захотелось уколоть неравенством перед судьбою. Он был крайне щепетилен в этом вопросе. Цифру в 500 тысяч погибших на фронте этой пришлой для него прослойки он принципиально оспорил, указав другую, более точную: не то 446, не то 462 тысячи. Действительно, существенная разница. Кто поспорит, в цифрах нужна точность. Тем более – прозаик по изначальной профессии не был гуманитарием и преклонялся перед цифрой. Но, если мне не изменяет память, в этом контексте не упомянул, что людей этой прослойки, включая женщин, стариков и детей в Советском Союзе было чуть больше пяти миллионов. Несложная арифметика для любителя точности: погиб каждый второй мужчина. Это скорбный рекорд, недостойный гордости, но полезный для нашей памяти. Как бы ни было от такой статистики горько, наш папочка уцелел и Рувин, хотя без половины внутренностей, тоже остался в живых. Правда, подпортил скрупулезную статистику. Согласно ей, на передовой в среднем невредимыми успевали повоевать не более двух недель. А дяде хватило пяти минут.
Папа два года из трех работал инструктором по разложению войск противника. Каждую ночь на передовой из солдатского окопа агитировал немцев сдаваться в плен. Об этом рассказывал без всякого пафоса. Работа есть работа, только в трехстах метрах от немцев.
Но как-то уже в Америке мне попалась заметка в русской газетке, как какой-то неизвестный мне автор писал о героических делах старлея Хаима Шлемовича Фукса, который под носом у фрицев убеждал их поднять вверх руки, получая от них в ответ мины и пули.
Не будем об этом. О папе я уже писал в повести «КГБ в семейном интерьере». Да, папа родился в рубашке, но Рувин тоже не совсем голый. Иначе не поверить его линии жизни.
Дядя все-таки нас нашел зимой сорок шестого в Одессе. Направил письмецо с каким-то мужичком, который отъезжал из Красноярска. Мужичка напоили, накормили, обогрели и подробно расспросили о вторичном рождении дяди. Живет, как все. Только тощий, как скелет, да скучает по Одессе. Вот и весь рассказ. В письме чуть подробней, но тоже телеграфно. Может, первое письмо за всю его биографию. А читать любил, особенно книги по медицине и здоровой пище.
Мамочка, помню, всплакнула. Как помочь брату? В Одессу его пустят, но где и на что жить при его-то здоровье. Так бы, наверное, дядя и остался в Сибири, признав Енисей за Черное море. Но Заступник не терял его из виду. Они, если кому сочувствуют, то прежде всего тем, кто им не докучает просьбами, не теребит за фалды, не мозолит глаза. Для таких, если успевают, они находят варианты. Самые невероятные, неожиданные, но просчитанные наверняка.
Продолжение следует…