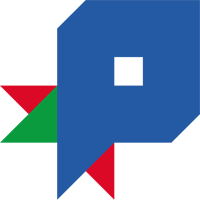Казалось, что под елкой было тепло. Снег окружал плотной стеной. Я прижалась спиной к стволу. Ничего, главное – ночь пережить, а уж утром и выход найдется. Меж тем солнце село, мороз крепчал и по лесу раздавался тревожный треск. Я же еще ниже погрузилась в наломанный лапник. Ничего, только ночь продержаться. Да и отца жалко. Я шмыгнула носом, вспомнив куцый тулуп его и тонкую жилистую шею, жалко выглядывающую в прорез ворота. Сожрет его мачеха, змеюка, все нутро выест злобой своей. Постепенно глаза стали закрываться, я спрятала руки поглубже, сжимаясь в комочек. Елка не даст замерзнуть, все теплее, чем там, среди белых снегов.
***
Этих шагов я не расслышала, наверное, из-за треска. Ан, раз – и раздвинулись ветви, поднятые сильной рукой, и смотрят на меня два глаза, синих, что речной лед.
— Что ж делает в лесу красна девица? Да ночью? Да в мороз? Тепло ли тебе?
А у меня и язык во рту примерз, смотрю во все глаза и не верю. Старики-то все про деда морозного говорили, что силен, да коварен – не угодишь, враз сосулькой до весны простоишь, не оттаешь. А передо мной молодец добрый. И шуба на нем справная, шапка. Всем хорош: и лицом пригож, и кудрями золотыми, вот только глаза… Смотрю в них, и сил нет оторваться, только и мочи было прошептать: «Тепло, добрый молодец, тепло».
А он и рассмеялся, и так на сердце моем отрадно стало от смеха этого, что и холод пропал. Подал он руку мне, да и вытащил из-под елки. К костру повел, а рядом с ним – сани расписные да кони добрые. В Киев-град дорогу держат, да вот ночь в пути застала. Огонь-то пляшет в костре, синими огоньками. И любо мне. И огонь, и молодец, и яства, что он из короба достает.
— Тепло ли тебе? — все спрашивает и глазами своими будто в душу заглядывает
— Тепло, молодец, да в твоей шубе теплее было бы, — осмелела я под взглядом его.
— А ну как шубу примеришь, так и в жены заберу, — смеется он, а в лесу вдруг тишина настала, будто стихли разом и мороз и ветер.
— А я и пойду, только батьку моего тоже к нам заберем! – выдохнула я и смотрю в глаза, не отрываясь, сердце безумной птицей колотится, кровь в висках бухает. Что-то скажет он мне, чернавке в драном полушубке, нищей дочери, нелюбимой падчерице?
Встал добрый молодец передо мной в полный рост, руку протянул, дал подняться, к себе прижал, глаза настороженные, дикие.
— Не пожалеешь ли ты, краса-девица?
А я только глаза закрыла, стою – не дышу, лишь головой качаю, мол, не о чем жалеть-то, да и терять тоже.
— Так быть по сему!
И губами своими к моими прижался. Вздохнула я, и жарко стало мне в зимнем лесу глухом. А суженый мой уже сани раскрыл и подарки достает. Платье лазоревого цвету да шубу пушистую и белую, не хуже княжеской-то. А в санях его чего только нету, каких богатств!
— Милый мой, а как же обещанное? Отца хочу забрать, увезти, пока мачеха со свету его не сжила.
Засмеялся он моим речам: «Так едем скорее и благословения попросим».
***
Ефиму не сиделось в избе. Все чудилось ему, будто дочь его Настька в двери стучит. А ведь сам поутру завез ее в лес глухой. Жена его, змея подколодная, невзлюбила девку, и то ей не так, и это не этак. Чуть что, сразу бить повадилась. Нет, Настька, конечно, терпела, бывало, сбегала, но деваться-то некуда, некуда идти! А тут жена совсем осатанела: самим есть нечего, еще эту твою кормим.
За окном уже давно была ночь. Пурга посвистывала в окна, расписанные ледяными цветами, когда Ефим услышал такой долгожданный стук в дверь. Тихий, словно ветер: «Батюшка, батюшка, впусти меня!»
На цыпочках, чтобы жена не проснулась, Ефим выскользнул с печи. Ни одна половица не скрипнула под ним. Вот и порог: «Дочка, входи скорее!»
Но приоткрытую дверь будто вырвали из рук. Шалый ветер ворвался в сени, выдувая крохи тепла из тела и души. За порогом стояла Настасья. Да какая! Платье шелково, лазорево, жемчугами шитое, да шуба, – княгине надеть не стыдно. А рядом добрый молодец, кудрявый, да в богатом платье.
— Ну, здравствуй, батюшка, – вот жених мой, мой суженый, благослови нас на счастливое супружество, – говорит Настька, а сама будто светится. Голос вроде ее, а вроде будто ветер в поле рыщет.
— Выйди к нам батюшка, благословения твоего просим, – не унимается дочка.
А внутри Ефима такой страх и ужас холодной змеей ворочается, что сил никаких совладать с ним нет. И уж хотел мужик дверь-то затворить, да крестным знамением осенить себя, да ветер зимний словно вымел его из избы и на снег бросил. А дочка к нему бросилась, да руку тянет, подняться помогать. Зажмурился Ефим, и пополз обратно к избе. Загудела пурга, завыла Настькиным голосом: «Что ж ты, батюшка, кровной дочке своей счастья не желаешь? Благословить не хочешь?».
Не выдержал отец, чай, не чужая, да и брякнул: «Благословляю!» – тут же стихло все. В избе его свет загорелся, теплом оттуда повеяло, жена его стоит да нарядная, все гостей приглашает честным пирком да за свадебку. Поднялся Ефим на ноги и сделал шаг за родной порог…
Нашли его спустя три дня у околицы села, когда наконец унялась вьюга. Тихо похоронили рядом с дочкой его, что на окраине леса нашли под огромной елью. А изба Ефима за ту ночь вся промерзла так, что печь треснула да осыпалась, а жену его с дочерью второй так и не нашли.